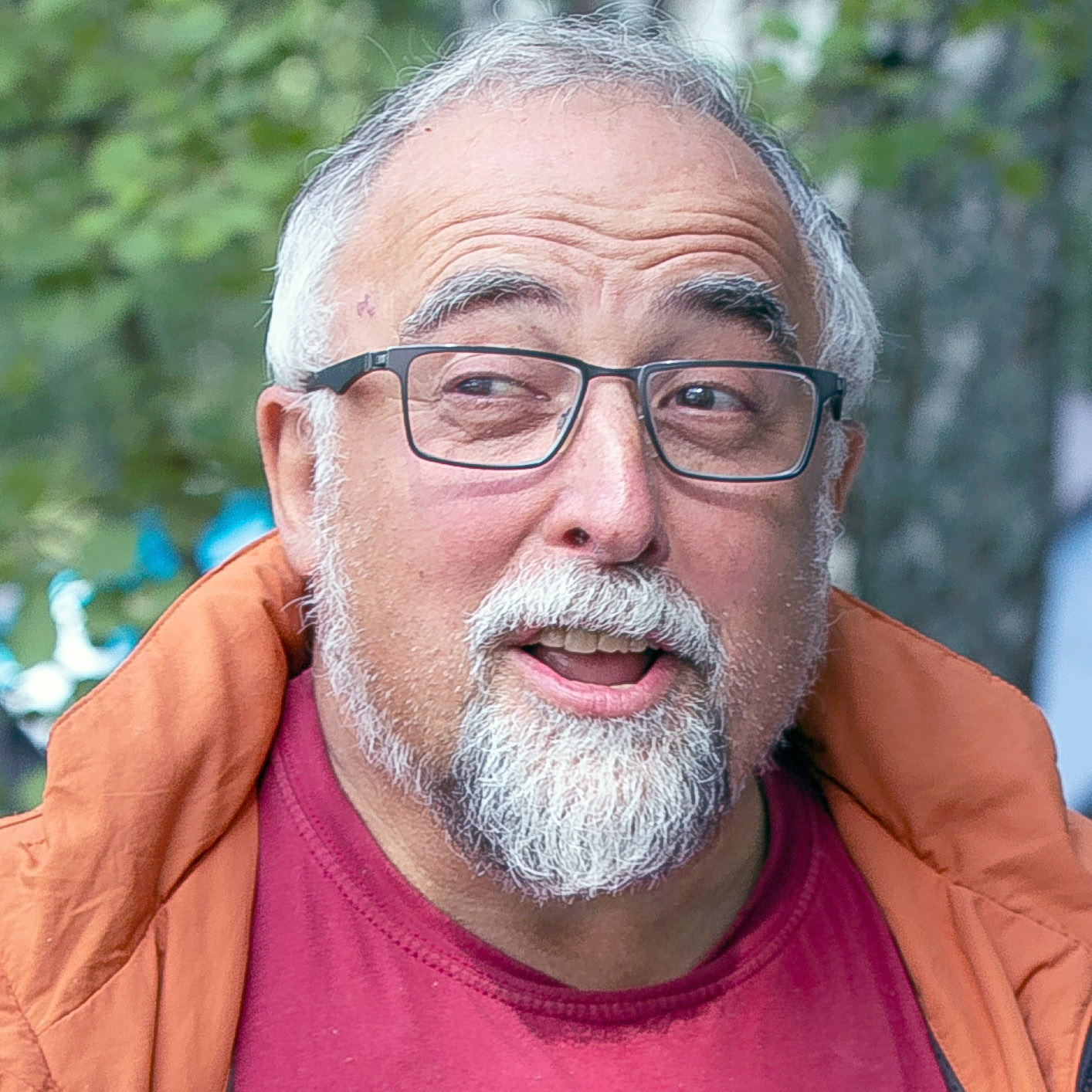495 Views
* * *
Говорю Ему: не складывается пазл.
Мир распался и больше не складывается из кусков.
Он в ответ: дурачок! Это ты шлимазл!
Ты без розовых собираешь его очков.
А без них он и раньше не собирался.
Так задумано, это такая игра.
Умный ни один не смог, как ни старался,
дурачки же справляются на ура.
Надевай очки и давай с дурачками,
и всё сладким сделается, как пломбир.
Дурачки, но с розовыми очками –
это то, на чём держится этот мир.
Не могу – говорю – и хочу не очень.
Я себе не буду врать. Извини!
Я хочу, чтоб ночами остались ночи
и чтоб днями сделались снова дни.
Я хочу, чтобы просто опять любили,
инфантильными были, а не в бою
погибали, чтоб город мой не бомбили
и чтоб память не бомбили мою.
Чтобы не был ребёнок, как взрослый, стоек,
не учился протезами управлять!
Чтобы ложь, текущая из помоек,
перестала всё вокруг отравлять.
Чтобы головы не несли на блюде,
чтобы люди не закусывали удила.
Чтобы ненависть не селилась в людях,
в тех, в которых раньше она не жила.
Я газеты раскладываю – и сминаю,
я боюсь заглядывать в интернет!..
Он мне сухо в ответ: “Как знаешь.
Другого мира у меня для тебя нет.”
* * *
Чуть-чуть потише! Тон пониже.
Не намекайте нам лицом.
Переговоры? Но не с ним же
и не с печальным жеребцом!
Пускай закроют их в вольере,
и автоматчиков к дверям.
Чтобы сидели там, как звери,
как и положено зверям.
Пускай готовятся к Гаагам,
вернут Донецк, Луганск и Крым.
И пусть выходят с белым флагом –
и сядем! И поговорим!
* * *
Неужели всё это сейчас и со мной?
Неужели такая последняя треть?
Я дождём омываемый столб соляной:
лишь назад. Я вперёд не желаю смотреть.
Я оставил Содом. Я, его старожил,
убежал, завернувшись в чужие стихи.
Я оставил свой дом, что из веры сложил,
из надежды и прочей сухой чепухи.
Но я новый построил и сердцем согрел,
я дышать на другом языке на бегу
обучался и жил. И назад не смотрел.
Я назад не смотрел, а теперь не могу.
Потому что от боли кричат кирпичи,
но зато малышня научилась молчать.
Потому что обстрелы кричи не кричи.
Всё кричи не кричи, но нельзя не кричать.
Потому что Содом мой давно не Содом.
Потому что мне память о нём дорога.
Потому что пылают мой храм и мой дом –
не за грех. Не за блуд. А по воле врага.
* * *
А вдруг проснёшься, и войны как не бывало?
Точнее, просто не было войны.
И никого нигде не убивало.
И никакого комплекса вины,
хоть, вроде, ты ни в чём и не виновен.
С утра, какую мину ни надень,
а солнце всё равно как будто внове,
и шлёт тебе приветы каждый день.
И ты бросаешь мелочь музыкантам.
И никому никто не угрожал.
И Лорес не с георгиевским бантом,
а тот, кем он себя изображал.
И главный вор и все, кто возле вора,
вся сволочь, все сообщники его,
вся злобная взбесившаяся свора –
герои шоу. Больше ничего.
Никто хребет не перебил надежде,
мы счастливы уже и счастья ждём.
И Харьков улыбается, как прежде,
умытый лёгким утренним дождём.
* * *
Гложет тревога. На солнце протуберанцы.
Сердце бы бедное в пятки спуститься радо.
Господи, нас тут много и мы засранцы –
я понимаю, что что-нибудь делать надо.
Смерть плодоносит, всюду её приметы.
Смерть расползается, смерти ужасно много.
Но, может, всё же это не лучший метод?
Может, иначе всё же можно ей-богу?
Господи, не присылал бы Ты Третью!
Всё уплывает, воет, срывает крышу.
Господи, в этих краях как-то неладно с сетью.
Господи, что? Я не слышу Тебя, не слышу.
* * *
Был нескончаем чаек крик.
Ползли ветра на материк.
Сутулился причал.
К причалу приходил старик,
садился, ставил воротник,
сидел, курил, молчал.
Садился рядом старый пёс,
он старый мяч от дома нёс,
хромал, пыхтел, сопел.
Пёс замирал, впадая в сон.
Молчали оба в унисон,
и лишь комарик пел.
Он пел, что осень хороша,
что листья пляшут не спеша,
кружась вокруг лица,
что шторм, что в море корабли
и что война идёт вдали
и нет войне конца.
Что в тучах прячется звезда,
что сыплет смерть на города
взбесившийся палач.
Слезились старые глаза,
порой сползала вниз слеза,
но это был не плач.
Дымился гаснущий бычок.
Старик молчок и пёс молчок.
Лишь взгляд скользил слегка.
Вот медленно ползут вдали
по горизонту корабли.
Вот дым ползёт с бычка.
Вот тают в небе краски дня.
Вот остаётся от огня
лишь горсточка трухи.
Старик молчал, не мог понять,
не мог стряхнуть, не мог принять.
И не писал стихи.
* * *
Какой октябрь однако на дворе –
смешались в кучу знаки Зодиака!
У октября сегодня бес в ребре,
и воздух круче афродизиака.
И всеми правят бесы из ребра.
Весенний дух, и сам весь как во сне я.
И трактора стараются с утра,
колёсами коллосьими краснея.
Как живописен меж полями шлях.
Пейзаж порой лесист, порой сараист.
Как трогательно смотрится в полях
не улетевший одинокий аист.
И ты плывёшь на ласковой волне.
Какой-то птах сигналит односложно.
И невозможно думать о войне.
И о войне не думать невозможно.
* * *
И всё, как раньше, как всегда –
заученно звонит будильник,
в розетке ток, в трубе вода,
и кипяток, и холодильник,
дом – крепость (помнишь поросят?),
на ложе ляжешь – сон приснится…
А где-то были детский сад
и школа, ХТЗ, больница,
где врачевал, куда с утра
тащился на велосипеде.
Больные, други доктора,
дом, двор, приятели, соседи,
базар, цветочницы, цветы
(десятый класс, любовь и муку
припомнил?), парк, в котором ты
ломал когда-то в детстве руку,
Госпром, и зоопарк, и Спуск
Пассионарии…Твой город –
он был в тебе. Теперь ты пуст.
Тех прежних улиц, прежних горок
нет больше. То есть что-то есть,
а от чего-то лишь воронки.
Но ты-то где-то, а не здесь,
ты как бы прячешься в сторонке,
судьбу играя на губе,
ты бесполезнее туриста,
когда живущее в тебе
крошат ракетами С 300.
Твой город ранен, но не мёртв.
Он злостью превозмог усталость,
любовью – смерть, и горд им Бог.
Но ты – тебе и невдомёк,
что развалилось, что осталось.
И всё ж не растерять любви,
две жизни по тебе прошаркав.
И я шепчу тебе: “Живи!
Ты просто должен выжить, Харьков!”
* * *
Ну что ж, бывают времена,
когда, увы, полутона
приходится отправить на,
избрав знамёна.
Как ни зови войну, она
всегда война, всегда вина.
Вина имеет имена –
знай поимённо.
Ты можешь врать себе, другим –
чужим и самым дорогим,
ты можешь петь со всеми гимн,
но день настанет,
когда, нажав на тормоза,
фортуна выглянет из-за
и глянет попросту в глаза –
в глаза заглянет.
И свет возникнет в темноте,
и пёс завоет в пустоте,
и кровь проступит на холсте
под образами.
И встанут четверо, трубя,
и пятый всмотрится в тебя,
и ты увидишь сам себя
его глазами.
* * *
Как бы утро. И ветер проснулся и как бы дунул,
сдвинул тучи, дал луч, но с каким-то оттенком фальши.
Господи, Ты бы всё же хоть что-то придумал –
я не знаю, как мне и как всем нам дальше.
Господи, у меня нет рецепта простых решений,
но и Ты ведь, давая наказ, не даёшь подсказки.
А Ты всё-таки, Господи, как-никак совершенен,
и Ты кашу всю заварил (остальное – сказки).
Дров ломаем всё больше, Всевышний, но это лес ли?
Не атланты мы, Ты пойми – мир не держат плечи.
Да, мы сами залезли туда, куда мы залезли.
Но от этого, Господи, не особо легче.
Худо, Господи, я бодрюсь, но худо,
и наручники туже, Господь при любом движенье.
В чудо верится слабо, но Ты б всё же сделал чудо –
нам без чуда никак, Ты войди в наше положенье!
* * *
Крылья сломаны надежде:
тут обида, там беда.
Для чего же ты, как прежде,
всё звездишь моя звезда?
Ты, звезда пока, не меркни,
но я вряд ли твой улов.
Это всё мне не по мерке.
От намоленных углов
кухни с тёплою стеною,
с полным семечек столом,
кухни с чаем и женою,
хоть и всё пошло на слом,
мне едва ли оторваться,
чтобы рваться на бегу,
чтоб с бедою миловаться –
не хочу и не могу.
Горе мглою небо кроет,
не захочешь, согрешишь.
Горе мне могилу роет,
я ему из кухни: шиш!
Я жонглирую словами,
затаившись в уголке –
чёрный ворон, я не с вами,
я от битвы вдалеке.
Я на кухне вновь и снова
в уголок укромный шасть
и ищу, безумный, слово,
чтобы в ворона попасть.