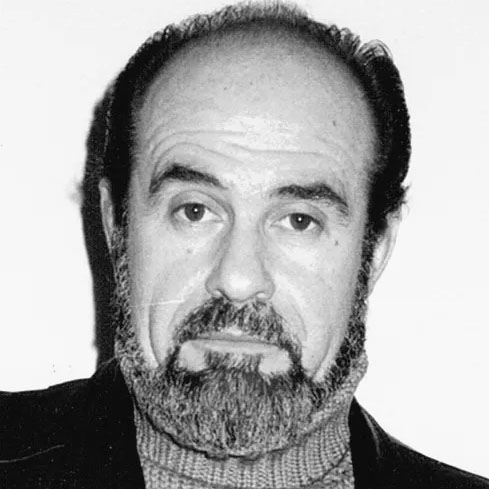471 Views
В связке
Сегодня серый день потухал в суете страниц,
шевелившихся валом нахлынувших героев,
не сомневавшихся в своей предопределённости.
Каково было автору тех страниц?
Всё мерещилось ему действие,
несообразное с волей меломанов.
Ибо драма в штанах и драма на котурнах
призывала всех желающих выступить.
И не только привычных профсоюзников,
но и представителей простой, безбилетной массы.
Неужто нужен пригласительный билет
для разворачивания полотнищ мягкого и твёрдого нёба?
И кто осмелится, привстав на цыпочки,
заявить о непреднамеренности своего поступка?
Каждый знает своё дело: вор, прохожий, собака.
Мы вернёмся к тому месту,
откуда все они пустились в реальный мир.
Не станем останавливаться
на проверке документов, прописки –
всё это известно с незапамятных времён.
Главное, что их всех удивил стоящий ребром вопрос,
в котором не было прохода.
И вот тут-то мнения разделились:
одни стали называть себя идеалистами,
другие – материалистами…
А я дрожащей рукой
пытался подобрать ключ к скважине,
зная, что нас догоняли.
Главное связка! Всё дело в связке!
И этот бесплодный звон
не мог меня больше прибодрить.
1964
Поэт
Очерствел
за четвертьстолетие
и губами замшелыми
шевелит поцелуй,
декоративной пуговицей
испуганно отстёгнутый
перед лицом товарищей,
традиционно торжественных.
Торжище ценностями,
духовно смердящими,
для смердов,
на миг оторвавшихся
от трудов белокаменных.
Остановился поэт,
в любви растревоженный,
на прекрасные
ясные дали глядит,
губошлёп.
1962
Саботаж
Как-то утром не заметил –
славный праздник наступил.
Слышу: топот на панели
лакированных сапог.
Сам начальник перегнулся,
в люк настойчиво глядит,
три зарплаты обещает,
окулярами блестит:
“Нам сегодня разрешили
саботировать в строю!”
Крикнул снизу:
“Поднимаюсь
в деревянных башмаках”.
1963
Жалоба рецидивиста
Индостания,
страна чёрная,
реки длинные,
горы до небес.
Там раджа
крокодилов своих
кормит кастами,
и каскады падают
водопадов с гор.
А у нас –
передача тачек,
чеснок да лук,
да костыльный стук.
Там, вдали за Магаданом,
дан нам –
дном не по Горькому
гигиеничного мыла
тяжёлый кусок.
И на горку пёс лез,
чтоб горькую пить.
Кисть виноградную,
кистью отбитую,
нёс – сердца и печени.
И по извилистым
венам простуженным
сок тот идёт со льдом
в тёмное царство Ра.
Нашу долю
забрали мусора…
1962
Кто?
Кто, в кровати зарешёчен
в полосатом одеянье,
сны двугорбые пророчит
на верблюжьем одеяле?
Кто?.. Ответы будят роды
новых сказок и устоев:
бедуины, гунны, готы
гонят к морю домостроев.
И глядит луна косая,
меж горбов идущих тает,
полуликая, босая,
караван не покидает.
Сколько милей!
Сколько мыслей!
Для чего-то нету цены,
где-то головы повисли,
почему-то мы у Цели…
Легковерные поэты!
Шлейф кого ещё носить нам?
И на хвост какой кометы
мелкой соли мы насыплем?
1963
В преддверии ада
Я снова возвращаюсь
к первоначальному выкрику.
Я выпалил им
в коммуникационную жуть.
Я заставил их врезать улыбку
в деревянные губы,
когда уносила в зубах пуповину
яга-повивалка.
Кашляли собаки.
Я отбросил форточки ушей.
Личико моё налилось кровью,
я весь напрягся в преддверии ада.
Случай поверг к моим мягким коленкам
белую хлябь.
Я не раз просыпался в снегу,
отрезвлённый холодной купелью.
Я, осыпанный манной небесной
в огнях фонарей,
распоясанный, бледный,
за грош медный
приступаю с утра
к производству детей.
1963
Паук
Паук многоногий, нагой и упрямый…
Паутина авосек.
Что поймал паук?
Сегодня – хлеб,
а завтра – сахар…
Так ткётся повседневность –
по рукаву, всё выше,
и с ней идёт паук.
Проходит время,
в пивном прибое бьётся
набальзамированная рыба,
и вы считаете ей кости
зубами будущего черепа,
принадлежавшего скелету,
некогда облечённому вашей плотью,
сгнившей по причине смерти,
наступившей,
как полагают ошибочно в очереди,
от рака сердца.
1963
Жёлтая осень
Остроконечные, шпили столетние
меднокрещёного Господа.
Падают грешные, жёлтобилетные
листья осенние, острые.
Режут свозняк и прожилки кровавят –
люди проходят, не брезгуют.
Утро. В музеях уж службу правят
культослужители резвые.
Город на данном этапе сподобился
тайн роковых по Владимирской.
Каждая улица – только колдобина
автодорожной Владимирки.
Слушал Господь, как у парка, у крёстного,
сердце стучало под рясой,
как сухожилия тянут берёзки
в жёлтом копчёном мясе.
Звякнул серьгою золотоясною,
пальцем прокуренным, божьим,
в жёлтом тумане сурово потряс, но
не испугал прохожих.
Шли они с Волги, Урала и Дона,
пуганы богом новым.
Ты угадай их сермяжную долю
в жёлтом листе кленовом.
1962, Киев
Мне век идти по серым тротуарам
Мне век идти по серым тротуарам,
чертить плечом заборов переплёты
под пьяный плач, под русскую гитару
на чёрную подпольную работу.
Большой подвал, как раненый блиндаж,
дрожат от топота бетонные опоры:
согнали пионеров на шабаш,
гробами в прошлое отбросив коридоры.
Бродило здание историей безудержной –
навстречу всадники процокали аллюром.
На цоколе стреноженный трезубец,
на лошади встревоженный Петлюра.
Шумел камыш, ломался пополам,
и свет упал, завистливый и серый,
на благорОжденных, явивших на полатях
свидетельство столь величавой эры.
По мутным залам человеки разбежались
из малых званий изваяния родить.
Монархи рухнули, осталось только малость.
Кому же дух крамольный пепелить?
“Спокойно! – голос человека в штатском. –
Гляди сквозь строй в коммунистическое завтра:
мы доберёмся до идейно-шатких
после подъёма сельского хозяйства.”
Мне век идти по серым тротуарам,
чертить плечом заборов переплёты
под пьяный плач, под русскую гитару
на чёрную подпольную работу.
Киев, 1962
Под занавес
Под гулкий занавес застав
мой выход был неистов
от серебристого моста
до постового свиста.
Я фонарей, на миг зелёных,
в толпе познал расположение
людей, внезапно уличённых
в свободном уличном движении.
Когда мотал судебный плут
вину по отпечаткам стоп их
и Соловьём свистел ОРУД
на оборудованных трОпах,
я различил сквозь темень лет
(был свет на сцене кем-то выключен),
о чём вещал кордебалет
движением похабно-выпуклым.
Там, чёрным ходом обречённых
входить, ввели, и тут допёр я:
пригнали тёмных заключённых
заполнить зал державной оперы.
Пока, от милости наглея,
они права качали разные,
прибавить зрелищ к пайке хлеба
пришли подследственные граждане.
За магазинами столиц,
в дворах, похожих на капканы,
традиционный инвалид
гранёным тешился стаканом.
Припав на кованый протез,
уйдя в провал костыльной пары,
идёт третировать собес,
а по дороге – тротуары.
И тут оратора я коркой укорил,
пустых фургонов синими гробами.
Но Он уж очередь кормил
пятью нерусскими хлебами.
1964, Киев