1014 Views
Город трамваев
Вскоре у меня появилось ощущение того, что Москва для нас закрыта. К началу 1997 года у группы сложилась отчаянная ситуация с выступлениями: ни один клуб не терпел нас более одного, максимум двух раз — при том, что мы стабильно приводили слушателей, платящих за вход, а себе не просили ни копейки. Не знаю, какие у них были соображения, но лично нас уже просто тошнило от того, что московские культуртрегеры совершенно не интересовались нашими песнями, зато обязательно считали своим долгом проповедовать своё единственно верное учение (особенно этим отличался Студёный, но я всё равно благодарен ему за то, что он нас столько терпел). Мы ни на что не велись и, соответственно, не могли быть никем использованы, но на противодействие таким попыткам тратилось слишком много нервов, а главное размывались собственные критерии, что хорошо, а что плохо. Новая программа «Страна негодяев», которую мы сыграли на втором и последнем в девяностых годах концерте в «Факеле» была неплохой по музыке, но слабой по текстам, хоть и содержала одну из популярных в тусовке песен «Моё имя — Сергей Есенин»; треть песен впоследствии больше не исполнялась никогда. Наиболее логичным в такой ситуации было уйти в квартирники (мы ими, собственно, никогда не пренебрегали), но, к счастью, ситуация сложилась так, что дополнительно к этому мы сумели объездить множество регионов России, и там нас принимали намного лучше, чем в Москве.
Я относился к происходящему вокруг с иронией, и поэтому написал ряд юмористических песен, впоследствии составивших программы «П.О.Н.Т.» и «Хулиганские песни». Я шутил, что одна из сторон кассеты будет именоваться «Недоумки», а другая «Задумки» (по аналогии с альбомом «Безумки», выпущенным музыкантами «Умки и Броневичка») — настолько меня рассмешило, как Шурик Синявский с религиозным благоговением произнёс перед началом одного из своих квартирников: «Умка альбом ЗДЕСЬ записала целый!».
Одна из лучших моих песен того времени, написанная в октябре 1996 года «Танцевать!», на таком фоне была совершенно незаметной, и мы её проворонили. Этот хит я оценил только через десять лет после сочинения, заново включив в концертную программу. Потом мы назвали по этой песне альбом «Происшествия», и она до сих пор считается у нас одной из самых популярных.
Новый 1997 год мы отпраздновали практически полным составом «Происшествия» (включая большую часть ребят, ездивших с нами в Ярославль) согласно нелинейной логике странствий — в занесённой снегом Туле вместе с Ольгой Анархией и её друзьями. Самым ярким впечатлением от этой поездки было то, что Гусман потерялся где-то по дороге, ещё в черте Москвы, опоздал на электричку, но все-таки непостижимым образом вошёл в дом к Косте Дьяченко буквально за пятнадцать минут до боя курантов. После праздника он снова уехал в Суздаль, и мы долго его не видели.
Следующей крупной поездкой было путешествие на Урал, в ходе которого с января по февраль 1997 года (в студенческие каникулы) мы с Лизой посетили Челябинск, Екатеринбург и Пермь. Нашей целью были прогулки по этим городам и посещение моих многочисленных родственников. Повсюду, разумеется, мы таскали гитару с флейтой. В Челябинске мы познакомились с местными студентами и устроили что-то вроде крохотного квартирника.
В Екатеринбурге я оказался впервые, и так уж получилось, что главным впечатлением для меня стал непривычный 35-градусный мороз. Самое интересное, при такой температуре у нас получилось вполне сносно погулять по городу — короткими перебежками от магазина к магазину. К сожалению, в кармане рюкзака оказался забытым пакет сока. Обнаружив в автобусе последствия фруктового взрыва, мы выскочили на остановке, где извлекли сладкий лёд буквально вручную.
Полноценное выступление у нас получилось организовать только в Перми, зато какое это было выступление! Узнав в начале года о том, что у нас возникла идея приехать на Урал, мой старый знакомый по поездке в Питер, Лёша Хантер, посовещавшись с пермской тусовкой (как и в Ярославле, она оказалась многочисленная и вменяемая), организовал нам концерт на тусовочной квартире, носящей громкое название «Отель Калифорния».
Со стороны это выглядело так: мороз и солнце, минус тридцать, суровый индустриальный город. На улицах, естественно, пусто; воздух звенит. Мы идём, ведомые Хантером, через какие-то хрущёвские пятиэтажки, и вдруг, зайдя за поворот, видим человек пятнадцать толкиенистов, рубящихся на своих деревянных мечах не на жизнь, а на смерть. «Вот и флэт», — сообщает нам Хантер, указывая на ближайший подъезд. После того, как большая часть выбывших из боя толкиенистов подтянулась на квартиру, начался сейшен.
Я до сих уверен, 6 февраля 1997 года мы с Лизой и впрямь дали один из самых удачных квартирников за всю историю «Происшествия». И хотя мне трудно оценить, как мы играли, но никогда ещё мы не реагировали так на зал. Заинтересованные, сопереживающие лица пермских слушателей вызывали у нас ответный порыв, желание перепрыгнуть свои способности, принести людям радость и печаль. Это был дикий прилив вдохновения. Мы умудрялись исполнять с первого раза песни, которые ни разу не репетировали, и люди слушали нас как зачарованные. Мы исполнили сначала свою новую программу, потом песни из рок-лабораторского альбома, а потом уже играли всё, что приходило в голову. Концерт закончился только тогда, когда нам стало нечего петь.
После этого на нас обрушилась толпа поклонников. Не помню, чтобы я за один концерт получил столько подарков: шесть фенечек, «портрет» концерта, нарисованный местной художницей и… электронные часы. Смущаясь, их даритель, человек по прозвищу Мерлин, сказал, что он не носит фенек, но часы — это тоже ведь фенька, только функциональная. На волне энтузиазма в тот же день я написал песню «Город трамваев», посвященную Перми, пермякам и Лёше Богомазову в особенности (потом её стала петь Владислава Рукавишникова). До 2010 года я продолжал натыкаться то на одного, то на другого зрителя того концерта, и каждый из них прекрасно помнил тот вечер.
Ночью в «Отель Калифорния» приехала целая компания — это были пермяки, ездившие тусоваться в Екатеринбург примерно с теми же целями, как мы ездили (и ездим) в Питер. Для них были немедленно исполнены лучшие песни сейшена. Один из ребят, поэт Андрей Мансветов, вёл себя агрессивно и шумно. Мне его представили с гордостью — он был членом союза писателей — но мы поначалу с трудом нашли общий язык. Кто бы мог тогда подумать, что именно с Мансветовым из пермяков у меня потом установятся наиболее тесные дружеские отношения… Ещё запомнился местный рок-н-ролльщик Макс Зильберман, отчаянно промахивавшийся мимо нот, но певший с большим энтузиазмом песню про какую-то девицу — «Медвежонок Падла».
Целых три дня мы тусовались в «Отеле Калифорния», с превеликим удовольствием играя песни и поглощая местное пиво «Рифей». Хантер провел нас, похоже, по всем известным ему пермским компаниям, в результате чего мы познакомились даже с одним ярославским музыкантом, игравшим с нами на всё том же фестивале «Рок в Ярославле» в ноябре 1996 года. Как-то мы пошли к речному вокзалу на Каму, вода которой, проглядывающая в полынье, к моему удивлению, оказалось какого-то неестественно жёлтого цвета. В воздухе разливался удушливо-приторный запах: в непосредственной близости находилась табачная фабрика, кондитерская фабрика и фабрика Гознака — и всё это на фоне исторического центра, да ещё рядом с местным КГБ… Пермь была, определённо, весьма суровым городом — точь-в-точь как в описаниях Хантера.
В ту поездку со мной произошёл ещё один эпизод, который не имел никакого отношения к рок-музыке, но очень запомнился своим странным символизмом. На второй день пребывания в «Отеле Калифорния» я обнаружил, что потерял паспорт, в который также были вложены все мои деньги и обратный билет. Поиски по квартире ничего не дали, и тогда я пришёл к выводу, что, скорее всего, забыл паспорт в квартире пожилого Лизиного родственника, к которому мы заходили в гости накануне. Человек этот жил возле пермского МВД, называемого в народе «Башней смерти». При встрече он ничего конкретного нам не рассказал, но явно хотел дать нам понять, что его жизнь была значима и ценна. Кем он был, я тогда не разобрался, «Башня смерти» вызывала неприятные ассоциации, да и слушал я не очень внимательно, наверное. По словам Лизы, «мой двоюродный дед Зиновий Осипович Тильман, один из 8 старших сиблингов моей бабушки, был зам. директора металлургического завода в Чусовой, о чем есть материалы в сети».
Явившись вторично в дом на Компросе (то есть, в переводе с местного жаргона, на Комсомольском проспекте), мы, к полной своей неожиданности, попали на похороны: накануне старик умер. Больше всего меня удивила спокойно-деловая атмосфера в доме; его сын сказал, что давно уже был готов к тому, что это может произойти в любой момент. Будучи ребёнком, я не понимал, что иначе организовать похороны, в общем-то, невозможно. Свой паспорт я потом нашёл в целости и сохранности в «Отеле Калифорния» под кроватью, на которой я спал. Андрей Мансветов считал, что это была неслучайная встреча. Не знаю…
На прощание Лёша Богомазов подарил нам цикл комиксов, герой которых по имени Нефор Датый попадал в различные нелепые ситуации. Потом Хантер сделал карьеру художника и дизайнера, полностью оправдав свою многозначительную фамилию, но перестал тусоваться. Переписка наша угасла примерно через год, когда я перебрался на другое место жительства.
Сезон снегопада
Пока «Происшествие» ездило по городам России, всё в нашей жизни казалось очень весёлым и приятным, но в Москве нам было комфортно только друг с другом. Мы постепенно стали хуже играть, так как в полном составе репетиции проводились не так часто, как раньше. Виной тому был, к сожалению, Гусман. Живя в Суздале, он частенько играл на концертах без подготовки. Я коротал время в его ожидании тем, что развлекался с нашей звукозаписывающей аппаратурой. Так в конце 1996 года мне внезапно пришло в голову продолжить абсурдистские эксперименты Лёни Ваккера. За пару недель мы с сестрой Машей и соседом Женей Егоровым записали все имевшиеся в распоряжении аудиопьесы (включая скандальную о Лермонтове). Кроме того, под аккомпанемент детского синтезатора мы увековечили не только отдельные Лёнины песни, но и все ходившие в нашей компании пародии на хиты русского рока, не делая никакого цензурирования даже в особо матерных и порнографических местах. Промежутки между песнями заполнялись идиотской рекламой, в сочинении которой Маша оказалась настоящим специалистом. Полученные девяносто минут бреда мы назвали «Радио Врубись!» в честь мифической радиостанции, на волнах которой якобы вещался весь этот ужас. Заканчивалась запись захватом студии ОМОНом.
Зимой 1996-97 года у меня снова, наконец, стали получаться удачные лирические песни, но ни одну из них мы так толком не аранжировали. Я часто исполнял две новых композиции — «Светлана» и «Декабрь». Первая раскрывала тему женского одиночества, вторая была повеселее и повествовала о том, как Верлен, Рембо, Элюар и другие поэты непостижимым образом попадают в современную декабрьскую Москву, чтобы посидеть на кухне и попить чаю с гостеприимными хозяевами квартиры.
Подходили к концу и лучшие годы арбатской тусовки. Хипповская компания окончательно переместилась к аптечному парадняку («Бублики» к тому времени трансмутировали в какое-то жуткое кафе с незапоминаемым названием), люди там стали обретаться более пьющие, торчащие и менее творческие, что у меня вызывало тоску и уныние. Главной причиной грусти был уход из арбатской жизни чувства спонтанности, доверия, доброжелательности. Вскоре оставивший музыку Лорд ещё в конце 1995 года написал песню «Подсевшие на Арбат» с такими словами: «Улица длиною в два километра, жрущая помои целой страны…». Трудно судить, насколько он был в этом прав — ведь в тусовке продолжали появляться светлые люди. Особо хотелось бы вспомнить Васю Алексеева и его жену Кэнтис (впоследствии — группа «Человек и птица»), которые в то время иногда играли на тех же квартирниках, что и мы, а также Варвару Кротову (после замужества Скороходову) по прозвищу Варда, которая организовала у себя дома значительную часть этих квартирников. Варя мне была знакома ещё со времён тусовок у Пичугиных и ездила с нами в Ярославль.

В 1994-1999 годах мы старались не пропускать «битломанских стрел» — ежегодных тусовок на Стреле (у Музея космонавтики на ВВЦ), посвящённых дням рождения Джона, Пола, Джорджа и Ринго. Кроме того, отмечался также день смерти Джона Леннона, а также день рождения и день смерти Джима Мориссона. В то время считалось, что если ты не можешь часто появляться на Арбате, то уж туда-то точно надо дойти. И «стрелы» были такой специальной «тусовочной» обязаловкой, на которой можно было легко встретить людей, которых не видел, к примеру, пару лет. В этот день хиппи бродили большими толпами вокруг памятника, пили алкоголь, устраивали массовую игру в «ручеёк» и вообще вели себя непринуждённо — впрочем, как и всегда. Конечно, пелись там, в основном, песни «Битлз», но мы ухитрялись, отойдя чуть в сторонку, исполнять свой собственный репертуар, собирая круг друзей и поклонников. Кроме тусовок у стрелы аналогичные встречи — более массовые и в меньшей степени подчинённые каким-либо правилам — проходили каждый год 1 апреля на Гоголевском бульваре (правда, в этот день я всегда оказывался простужен и не приходил) и 1 июня в День защиты детей в парке Царицыно. Там было как-то более расслабленно и не очень интересно, так что в первый раз до Царицыно я добрался только в 2011 году, встретив там Митю Усачёва из первого состава «Происшествия» и нескольких знакомых по нашей арбатской компании середины девяностых… Кстати, битловские «стрелы» и вообще тусовки середины девяностых были хорошо фотодокументированы благодаря парню по прозвищу Старки (Вадиму Приступе), который в любую погоду ходил с фотоаппаратом и сделал множество неоценимых кадров. Ещё с фотоаппаратом в те годы на тусовке можно было частенько увидеть легендарного, талантливого и добрейшего Анатолия Азанова, который, к сожалению, ушёл из жизни в начале двухтысячных. Кстати, Старки учился в Московском медико-стоматологическом институте, и благодаря ему я несколько раз ошивался там с гитарой, пытаясь нести наше творчество студентам-медикам. Самым запомнившимся кадром в его коллекции было исполнение мной песен на стреле в феврале 1995 года (т.е. Харрисоновской стреле) в лютый мороз. Как у меня это получалось — ума не приложу.
Последнее крупное выступление перед хипповской тусовкой мы дали в марте 1997 года в Троицке. Этот концерт, куда нас позвал играть, кажется, Саша Синяевский, получился одним из наиболее массовых андеграундных сейшенов того времени: на нём собралось примерно десять групп и несколько сотен слушателей. До сих пор прекрасно помню переполненные тусовщиками маршрутки у метро «Тёплый стан» и попытки отдельных товарищей проникунуть туда бесплатно…
Память сохранила этот концерт как место, где всё шло не так. Мы играли первыми, и я, некстати, вышедший за пивом, едва не опоздал на собственное выступление. У нас, как обычно, не было барабанщика — вместо этого на перкуссии играла моя однокурсница Надя Корешкова. Гусман не успел отрепетировать новые песни и безбожно в них лажал. Я пару раз от волнения забыл слова песен. Какая-то газета потом изрядно на нас оттопталась. Помню, статья в ней называлась «Умкины дети», и мы, по этой версии, были блудными детьми. Сам по себе текст был довольно идиотский: например, нас почему-то именовали в нём фанатами «Крематория» — видимо, потому что одну из песен («У генерала Эйзенхауэра») я посвятил Армену Григоряну. Мне было обидно потому, что автор заметки затронул мои убеждения, а я не имел возможности ему ответить или возразить — только читать эту дурь… Потом, через много лет, я случайно познакомился с одним из наших тогдашних слушателей — он остался в полном восторге от выступления «Происшествия» и недоумевал, почему именно этот концерт произвёл на нас столь гнетущее впечатление. Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос — у меня осталось только ощущение усталости и опустошения, без всякой конкретики.
На самом деле всё было совсем неплохо. После нас играла Джонни из группы «Транспорт», которая очень нам понравилась, и мы ей тоже. На посвящении Григоряну и «Моё имя — Сергей Есенин» мы устроили что-то наподобие джема с участниками нескольких групп; вместе с нами на сцену вышел гармошечник-блюзмен Вовка Кожекин, с которым я познакомился где-то за полгода до этого и который был организатором этого концерта. Как обычно, мы выложились на сцене по полной. Иначе и быть не могло: слишком уж редкими были моменты выхода на сцену. Именно поэтому я умышленно вставил в программу троицкого концерта новую песню с недвусмысленным названием «П. О. Н. Т. (Посвящение окружающим нас талантам)».
Вскоре флейтист группы «Навь» Илья Сайтанов написал едкое посвящение «Происшествию», воспринимавшееся прямым ответом на наш сарказм:
Дуэт из оперетты (поют Князь и Природа)
Я пою о том, что вижу:
Безобразие кругом.
Все покрыто черной тенью —
Просто дьявольский дурдом!
Вот только жаль,
Что на глаза
Повязан чёрный шарф…
Я пою, о том, что слышу:
Слишком много чепухи.
Пишут песни все без мыслей,
Растаманские стихи.
Вот только жаль,
Что из ушей торчат
Бананы с двух сторон…
Я устрою здесь квартирник,
Позову своих друзей,
Пусть рекою льется пиво,
Лейся песня веселей!
Вот только жаль,
Что инструменты не строят
И голос еле слышен…
Я буду петь о жизни сложной,
Нараспев тянуть слога-а-а-а,
Слава Богу, невозможно
Рот заткнуть мне никогда!
Вот только жаль,
Что никого здесь не осталось,
Кроме нас с тобой, мой друг…
Однако заткнуться в наши планы не входило. Мы продолжали придумывать аранжировки к песням. Однажды в гостях у Олега Хухлаева мне дали в руки хорошую гитару, на которой получалось зажимать всё, что я хотел. И вдруг у меня стало получаться играть по-настоящему хорошо — в манере, немного похожей на стиль Юрия Наумова. Естественно, после этого я стал сочинять блюз. Новые песни оценил даже Алексей Ветроградов, согласившийся записать нас ещё раз, но на этот раз просивший денег на новую магнитную ленту. Однако даже эта скромная сумма была для нас совершенно непосильна, и из проекта записи ничего не получилось. Оставалось лишь пожалеть, что эти гитарные способности у меня открылись слишком поздно…
Протянутая шляпа
Примерно тогда же состоялось моё знакомство с Галиной Снимщиковой — человеком, не имевшим никакого отношения к музыке, но легко нашедшим себе место в нашей компании. Дело было так.
Осенью 1996 года я иногда приезжал в свою школу, где пытался набирать тексты своих стихов и песен, а также материалы журнала «Чёрный петух», но на самом деле больше учился печатать. Периодически за моей спиной хихикали две старшеклассницы, одну из которых я быстро запомнил, конечно, в первую очередь, по голосу, а во вторую — по длинной светло-русой косе. Несколько позже мы с ней совершенно случайно пересеклись на концерте Умки в библиотеке Чехова, где я пытался распространять свой журнал. Настроение у меня было редкостно паршивым, и я был рад случайной компании, которую мне составила Галка — нелепая девочка-подросток с обветренными от поцелуев губами и её парень Митя Скворцов, гитарист и вокалист, лидер группы «Выход в город». Купив на последние деньги жуткое пойло под названием «Аперитив Карелия», мы стали употреблять его прямо на заснеженном Тверском бульваре…
Когда я встретил Галку в следующий раз, выяснилось, что их роман с Митей прекратился, но они продолжили общение друг с другом и со мной. Галя поступила на математический факультет МПГУ, считала себя фанаткой «Аквариума» и не пропускала ни одного концерта. Её родители познакомились в Рижском университете, и Галя ради прикола культивировала в себе всё прибалтийское, что очень шло к её внешности. Дверь Галиной комнаты украшала табличка с надписью «Souvenirs veikāls», что означало «Сувенирная лавка».
Я натыкался на Галку практически на всех тусовках, куда приходил. Поначалу с ней интереснее всего было именно пить. Этим мы занимались в гостях, на каких-то концертах, просто в подворотнях — всегда, когда находились деньги и время — так постепенно мы стали хорошими друзьями. Галя была неизменно доброжелательна и всегда готова к авантюрам. Впечатление усиливалось тем, что помимо типичных хипповских опознавательных знаков из одежды она предпочитала шляпы и пончо. Её идеалом был старший брат Егор, и поначалу она смотрела на меня так же — взглядом младшей сестры.
— Не давай мне ни с кем целоваться, — предупредила она меня перед каким-то концертом, а потом заставила таскать себя за волосы, когда я не выполнил её просьбу, и она всё-таки целовалась с каким-то парнем.
Как-то раз мы допивали пиво около клуба «Кризис жанра» и вдруг увидели ещё более сумасшедшую девушку, чем Галя — её знакомую по факультету. Руки её были увешаны феньками, из одежды обращала на себя внимание длинная цветастая юбка. Девушка шла танцующей походкой по мартовскому снегу БОСИКОМ и БЕРЕМЕННАЯ. Мы смотрели на это шокирующее зрелище, потеряв дар речи.
— Да… Бывают дуры, которые не знают того, что они дуры, а бывают дуры, которые буквально гордятся тем, что они дуры, — сказала Галка.
В июле 1997 года, когда Лиза уехала работать в лагерь для детей-инвалидов, а от Гусмана снова не было ни слуху ни духу, у меня возник новый музыкальный проект, получивший редко озвучиваемое название «Граждане мира». Во времена своего расцвета в 1998 году, он представлял собой небольшую компанию уличных музыкантов, исполняющих преимущественно песни «Происшествия» и нравящихся нам музыкантов — «Выхода», Вени Дркина, Михаила Щербакова, Саши Непомнящего, группы «Алоэ» и Алексея Паперного (позднее в репертуар добавились также Марк Фрейдкин и Олег Медведев). Выступали мы практически ежедневно и, главным образом, на Арбате — как раз на том месте, где впоследствии был установлен памятник Булату Окуджаве. По выходным там можно было заработать довольно значительные суммы денег. Кроме того, я собрал целую коллекцию иностранной валюты, которую нам подбрасывали туристы — от белорусских «зайчиков» до бразильских реалов.
Душою нового проекта стала Галка. Именно она впервые предложила себя в качестве сборщика денег, что значило танцевать со шляпой в руках, старательно строя глазки проходящим мимо мужчинам. Я, естественно, взял на себя роль гитариста и вокалиста. В принципе, этого состава хватало для выступлений, но иногда мы приглашали кого-нибудь ещё — например, через некоторое время Галя привела в наш дуэт уроженца Питера, флейтиста-виртуоза Егора Таликова по прозвищу Заяц, который стал играть с нами довольно регулярно. Меня тянуло к Галке как магнитом: я постоянно её по-мальчишески доставал и провоцировал, а она велась на провокации и тоже провоцировала в ответ.



Когда я перебрался в Жулебино, мы жили с ней в пятнадцати минутах ходьбы друг от друга, но ехать в центр было удобнее от разных станций метро. Тащиться домой в одиночку от «Выхино» мне было скучно, и я всеми правдами и неправдами стремился утащить Галку в Жулебино.
— Галя, а я знаю, почему ты сегодня поедешь со мной на Выхино, — заговорщицким тоном говорил я за минуту до остановки поезда в «Кузьминках».
— Почему?
— Не скажу.
— Скажи!!! Я же ночь спать не буду теперь!
— Да вот потому то и поедешь, — злорадно хохотал я, когда на «Кузьминках» двери поезда захлопывались, и диктор невозмутимо сообщал о том, что следующая станция — «Рязанский проспект».
Выступая на Арбате, мы никогда не нуждались в сцене. Она всегда была перед нами, да и тусовка от нас особенно не отдалялась. На выступлениях мы всегда отрывались на полную катушку, стремясь сделать так, чтобы люди останавливались нас послушать как можно дольше. Галка любила ярко одеваться, что, конечно, помогало привлечь внимание, но люди ценили и мои таланты тоже.
— А у вас есть музыкальное образование? — интересовались некоторые прохожие.
— Есть, — отвечал я, показывая на Галку, — вот, девушка музыкальную школу закончила…
Однажды к нам подошёл мрачный молодой человек с бритой головой, одетый в чёрное. Наша музыка ему понравилась, и он стоял рядом очень долго, перебирая чётки. Мы и представить себе не могли, что это тоже игра на публику.
— Ребята, хотите пива? — спросил он, когда мы сделали перерыв. Мы, конечно, согласились, но сам человек пить не стал, сославшись на соблюдение буддистского запрета. Назвался он крайне загадочно — Чёрный Фельдшер — после чего пригласил зайти к себе в гости, если мы вдруг окажемся в районе станции метро «Молодёжная».
На следующий день Фельдшер пришёл с бутылкой пива в руках.
— У меня буддистский праздник, — пояснил он.
С того времени этот праздник у него не прекращался, обнаруживая всё более и более бурные проявления. При этом Фельдшер реально работал фельдшером «Скорой Помощи». Щедрый на личные посвящения, в 1998 году я написал ему песню с такими словами:
«Скорая Помощь», ночная Москва,
Всех нас спасёт медицина одна,
Но, тем не менее, ясно, что всех
Переживёт один человек —
Чёрный Фельдшер!
Чтобы было веселей, мы играли под различными плакатами, из которых один гласил, например: «Сами мы местные, больных у нас нет, с документами всё в порядке, но деньги нам всё равно нужны!» Полученные суммы Галка ловко пересыпала из шляпы в гитарный чехол. Потом всё аккуратно подсчитывалось, крупные купюры делились поровну, мелкие — пропивались, и только самые бесперспективные монеты ссыпались джаз-оркестру около метро Смоленская. Этого старикам хватало: они играли за идею, а не как мы — за деньги, которых и так зарабатывали больше, чем могли вообразить.
Как следствие, нас стали постоянно штрафовать по статье «незаконное предпринимательство», а точнее — мы отстёгивали дежурному в хорошо знакомом пятом отделении милиции по 50 000 рублей (до деноминации и дефолта эта сумма соответствовала, вероятно, примерно десяти долларам). Впрочем, однажды в июле 1998 года, когда в Москве проходила Юношеская олимпиада, нас вместе с слушателями посадили в «обезьянник» ещё до начала выступления, где продержали несколько часов. После этого приключения сильно перенервничавшая Галя умудрилась выпить залпом стакан коньяка, а я написал об этом соответствующую песню:
На улице сержанты играют в тир —
Логичное следствие Олимпийских Игр,
И пусть граница абсурда тонка и легка,
Но только, Галя, не пей коньяка!
Чтобы обезопасить себя от тех, кто должен был обеспечивать безопасность, мы временно перебрались на ВДНХ, где осмотрительно заняли тихое место между метро и остановками автобусов. Денег там давали почти столько же, сколько на Арбате, но ни одну песню не имело смысла играть дольше, чем в течение первого куплета: пассажиры автобусов проходили мимо нас слишком быстро. Лишь однажды к нам подошли пьяные азербайджанцы, дали денег и напоили пивом в ближайшем ресторане, где мы устроили настоящий концерт. Но всё это было довольно скучно, так что окончание олимпиады мы встретили с энтузиазмом.
Ко времени нашего возвращения на Арбат Егора Таликова окончательно сменил гитарист по прозвищу Жак; в результате разница между «Гражданами мира» и «Происшествием» стёрлась. Жак привнёс в наш репертуар значительное количество авторской песни, а я стал получать особое удовольствие от проигрышей на соло-гитаре.

Мутные воды душеспасения
Вероятно, именно в этом месте стоит рассказать о моих университетских годах.
Моё обучение на психологическом факультете продолжалось с января 1996 года до середины 2003 года: после получения диплома в 2000 году чёрт меня дёрнул поступить в аспирантуру. Учился я неплохо, но неровно, и по нескольким предметам в дипломе у меня стоят тройки, хотя я сдал госэкзамены и защитил диплом на «отлично».
Начиная с первого же курса, я очень много прогуливал, сессии вгоняли меня в отчаяние, но высшее образование было плодом компромисса с родителями и средством избежать армии, от которой мне в 1998 году, правда, всё равно написали «откос» из-за слабого зрения. Не знаю, чего мне стоило закончить учёбу. Как это обычно и бывает, обучение вряд ли мне дало много конкретных практических знаний, но зато научило быстро изыскивать и системно обрабатывать нужную информацию. Это мне понравилось и впоследствии помогало осваивать при необходимости новые профессии, одну за другой.
За институтской партой я написал множество стихов, песен и первую неплохую повесть, которая много раз переписывалась и меняла название, пока наконец не стала именоваться «Вниз, по течению» (этот заголовок я позаимствовал из песни группы «Секрет», от себя добавив лишь запятую, придававшую, как мне казалось, уничижительный смысл обеим частям названия). Текст был неплохим по той причине, что состоял из описания реальных случаев — более или менее существенных для моей жизни. Кроме того, мне неплохо удались персонажи, обладавшие реальными прототипами. Но разрозненные байки никак не образовывали цельного сюжета, пока в 2005 году я не включил в текст повести свою собственную печальную love-story. Только тогда этот текст, на который я потратил десять лет, стал читаться по-настоящему хорошо.
Ко второму курсу (то есть к сентябрю 1996 года) моя университетская жизнь вошла в постоянный ритм. Постоянным фоном стали детские песни, доносящиеся из цирка на Цветном бульваре (он находился через дорогу от нас). Приходя на факультет, я тут же расчехлял гитару и орал рок-н-ролл в курилке на третьем этаже или вообще где придётся, прогуливая занятия. Слушали меня совершенно разные люди; с некоторыми, как с будущим директором книжного магазина «Гиперион» Ириной Овсянниковой, учившейся двумя курсами старше, я вторично пересекался уже много лет спустя. В тёплое время года к студенческой компании часто присоединялись местные алкоголики.
В это время Миша Рокитянский бросил учёбу, а ещё через несколько лет, когда я уже с ним не общался, погиб в автокатастрофе. Новых собратьев по музыкальной деятельности на факультете я не нашёл, но всё равно общался со множеством творческих людей, которые так или иначе оказали на меня позитивное влияние — и парней, и девушек (количество девчонок у нас, как и в любом педагогическом вузе, зашкаливало). Что говорить, — без этой прекрасной компании не было бы ни эпохального фестиваля в Ярославле, ни журнала «Чёрный петух», ни впоследствии появившейся газеты «Студенческий листок».
Большим событием для меня был университетский турслёт 1996 года, где впервые сложилась весёлая и дружная компания второкурсников и первокурсников, составившая основу команды нашего факультета. В результате впервые за всю историю факультета мы получили первое место на конкурсе песни МПГУ, который проводился в первый же день турслёта. Судей убедило хорошо срежессированное исполнение песни группы «Выход» со словами «мы просто ловим рыбу в мутной воде», приписываемыми якобы самому Фрейду, а также мои экзальтированные пляски у костра под эту песню. Грамота за первое место на конкурсе по праву досталась мне и до сих пор сохранилась, а спустя полтора десятка лет, я рассказал об этой истории самому автору песни, Сергею Селюнину. Впрочем, злые языки говаривали, что первое место мы получили из-за того, что филологический факультет опоздал на турслёт, биохим запил, а геофак недооценил силы соперника. Уже через месяц конкуренты отплатили нам сполна, поставив неадекватно низкие оценки на университетском КВН, где меня угораздило первый и последний раз попробовать себя в роли капитана факультетской команды. После этого фиаско наш курс больше ни разу ничего толком не делал вместе: сложно поверить, но мы были единственными лет за десять, кто не отмечал «экватор» — середину учёбы — мы просто забыли это сделать. Зато я продолжал общаться с более молодыми ребятами.
Из панковских чудачеств могу припомнить только одно — перформанс под названием «Белая голова». Как-то собравшись в кафе, мы (примерно два десятка студентов с разных курсов) обнаружили, что за окном — первый тёплый весенний день 1997 года. Высыпав на улицу, мы стали развлекаться, бегая и крича. Гела Хачиева и Надя Корешкова (соответственно, скрипачка и перкуссионистка «Происшествия») приставали к прохожим, с дурашливым видом спрашивая дорогу до Красной площади. Наконец мне пришла в голову совершенно идиотская идея. Марат Юничев, достав эластичный (!) бинт, полностью забинтовал мне голову — по всем правилам первой медицинской помощи, после чего я побрёл шатающейся походкой по Новому Арбату. Мои друзья носились вокруг с фотоаппаратами, тщательно фиксируя реакцию испуганных прохожих (особо трогательные фотографии были сделаны в аптеке возле кассы и в тех случаях, когда я просил у кого-нибудь закурить). Так мы добрели до «Баррикадной», привлекая внимание девушек и ментов.
Едва ли не самым главным событием во время моей учёбы стал пожар, случившийся на факультете в середине августа 1997 года. Рабочие, что-то сваривавшие в подвале, так удачно уронили искру, что правое крыло выгорело от подвала до крыши, а пожарные при тушении ещё и перебили все стёкла. Узнав о происшедшем из теленовостей, я помчался на факультет, но к тому времени помощь по разбору завалов уже не требовалась, и меня попросили провести ночь в здании, подменив ночного сторожа. О, я обожал такие приключения! Но именно в этот вечер я должен был играть на Арбате с Галкой, отменить встречу было невозможно. Зато можно было поехать на факультет после работы.
После выступления мы с Галкой потратили мелкие деньги на пиво, и меня, как обычно, потянуло на провокации. Зная Галину авантюрность, я сумел подбить её на совместную ночёвку на факультете, но поскольку это было, по сути, самоцелью, вечер мы провели бездарно — за употреблением алкоголя. Заснули мы там же, где сидели — на старом диванчике, среди пустых бутылок, целомудренно отвернувшись друг от друга. Удивление сменившего нас с утра дневного сторожа было безмерным — нас даже сначала чуть было не отвели в десятое отделение милиции, примыкавшее к зданию факультета. Впрочем, если бы это произошло, думаю, долго мы бы там не задержались — студенты часто наведывались в милицию в качестве понятых, и меня хорошо знали.
К осени факультету выделили деньги на ремонт, но их хватило только на покупку сорока метров проводки. Вскоре ударили первые холода, студентов разделили на три смены, и мы стали учиться по очереди, не имея ни малейшего представления о том, когда в здании появятся свет, отопление и канализация. Хуже всего приходилось ребятам, приходившим на факультет вечером: после наступления темноты каждый включал карманный фонарик. Впрочем, уже через год пострадавшее крыло частично удалось ввести в строй, и только канализация ещё долго давала сбои. Появившаяся осенью 1997 года анонимная панковская газета «Студенческий листок» (мы с друзьями печатали её тайком на факультетском ксероксе) подробно освещала ход ремонта, немилосердно ехидничая и матерясь.
Разумеется, учёба на факультете сопровождалась сочинением специальных алкоголических песен, из которых можно было при желании составить хоть целый альбом. Из лучших вспоминаются «Блюз перловской общаги», «Рот-фронт» и, пожалуй, наиболее удачная — «Пестеля, 25». Адрес был избран мной абстрактно, но впоследствии обрёл довольно забавные привязки к местности: в Москве, недалеко от Пестеля, 25 жила Аня Гришина, а в Петербурге по этому адресу оказалась расположена женская консультация. Текст был наигранно сентиментален и повествовал о любимом занятии — пьянке в подъезде:
Я захожу в знакомый подъезд,
Открывая вино на ходу ключом,
Когда-то ты мне говорила, что это — любовь,
А теперь — ни при чем.
Но я вернулся сюда не затем, чтоб искать друзей,
Я вернулся сюда, лишь потому что я здесь,
И я пришёл в твой старый дом на улице Пестеля, 25,
Убеждая себя, что теперь мне на все наплевать.
Потом всё закончилось. В 2001 году умерла замдекана Андреева — я не сомневаюсь, что её свёл в могилу ремонт здания. Умер старик-профессор Архангельский, умерла педагог Гусева. На факультете полностью поменялся руководящий и профессорский состав, а моя однокурсница Таня Сахарова стала замом декана по учебной части. В общем, спустя несколько лет от факультета педагогики и психологии осталось только помещение — да и то едва узнаваемое после ремонта.
Как-то в сентябре 2007 года я забрёл на факультет по дороге между гомеопатической аптекой и свежеоткрытой станцией метро «Трубная». Глядя по сторонам, я ходил никем не узнанный и вдруг столкнулся с бывшим деканом, Сластёниным. Он прошёл мимо, глядя в пол, мимо не замечающих его студентов. «Здрасьте, Виталий Александрович», — по привычке выпалил я. Не поднимая глаз, он продефилировал дальше. Я почувствовал себя шизофреником, общающимся с домовыми… Когда я спустился на первый этаж, ко мне подрулила девочка-студентка и весьма вежливо попросила разменять 50 рублей — ей не хватало мелких денег на кофе. Размена у меня не нашлось. «Сколько не хватает?», — спросил я. «Пять рублей». Я усмехнулся и протянул ей пятак. «Держи. В 1995 году на пять (тысяч, до деноминации) рублей можно было купить бутылку вина». Девочка поблагодарила и отправилась в кафе. Я почувствовал, что хоть в какой-то степени оправдался за одолженные и без жалости пропитые пятёрки в 1995-2000 гг…
В 2021 году я узнал из прессы, что, оказывается, на моём факультете вовсю процветала коррупция и защита «левых» диссертаций. Ни о чём об этом я не знал. И, наверное, хорошо, что я передумал защищаться — из-за того, что мне не хватило таланта написать даже никчёмную диссертацию.
Учителя и ученики

Летом 1997 года нас отправили работать на трудовую практику пионервожатыми в пионерский лагерь «Кратово» — ведомственный, железнодорожный, находящийся недалеко от города Жуковский. Отряд мне достался небольшой (двадцать человек), но один из самых младших (6-7 лет) и состоящий исключительно из девочек. Думаю, большего издевательства над волосатым и бородатым мужиком было невозможно себе представить, но вскоре я вошёл во вкус.
Почти все вожатые других отрядов были моими однокурсниками. К примеру, в том же корпусе, что и я, Анджей Вишневский управлял примерно таким же по численности и возрасту отрядом мальчиков. Но реально мы не так уж часто виделись и общались. С напарницей Таней мы сначала сильно поссорились. Я сказал, что отныне буду работать сам, а она утирать девкам слёзы и ходить на планёрки, но потом мы помирились, и девочки были уверены, что у нас с Таней любовь. Даже приезд ко мне в гости Лизы не убедил их в обратном.
От младших ребятишек, разумеется, никто не ожидал особенных чудес, и на доске достижений лагеря, вывешенной в столовой, наши отряды всегда занимали последние места. Это вроде бы заставляло нас не перерабатывать, но реально мы едва успевали следить за нашими вечно разбегающимися и стремящимися похулиганить детьми. Отчаянный вопль Анджея «Лёша, скорее вытаскивай свою русалку из фонтана!», относящийся к главной infant terrible моего отряда Насте Фёдоровой, я помню до сих пор.
Попутно был развеян миф о том, что все без исключения вожатые, якобы, в течение смены регулярно пьют. Не знаю, как в других отрядах, но у нас не было времени толком даже поспать. Позволили себе выпить водки мы лишь однажды, когда Миша Максаков, вернувшись из города после выходного, сообщил, что умер Булат Окуджава. И то мы пили по чуть-чуть, страшно боясь похмелья, потому что работать с похмелья было бы просто нереально.
Как-то девочка по имени Настя Пелых пожаловалась на невыносимые головные боли. Разумеется, это произошло в самый неподходящий момент — мы как раз пересчитывали своих детей, чтобы куда-то их вести. Оставив отряд Тане, я взял ребёнка на руки и побежал в медпункт. Осмотрев Настю, врач ничего толком сказать не смогла, дала таблетку баралгина и отпустила с миром. Через полчаса Настя снова стала жаловаться на боль, и картина повторилась. «Знаешь, по-моему, ей просто в кайф, что ты носишь её на руках, это всем женщинам нравится», — предположила Таня. «Окей, тогда у меня есть для неё своё лекарство», — ответил я и стал ждать третьего приступа, который наступил гораздо скорее, чем можно было бы подумать.
Приведя девочку к врачу, я сразу попросил таблетку аскорбиновой кислоты и поведал Насте, что вообще-то после третьего приступа головной боли мы обязаны увезти её в больницу, но у нас есть ещё одно, самое сильное лекарство. Так что, приняв таблетку, Настя была обязана соблюдать два часа строгий постельный режим. Впрочем, уже через полчаса голова у неё прошла, и визит в больницу не состоялся.
Наши отряды должны были принимать участие во всех лагерных мероприятиях, что было довольно неприятно и для детей, и для нас — вкус у начальства был просто кошмарен. Музыкальный цех состоял из старика-баяниста, который разрывался между всеми отрядами сразу, и молодого парня ди-джея, любимца девушек и активного потребителя пива. Так что наличие гитар у меня и Миши Максакова было стратегически выгодным: при подготовке сценических постановок наши отряды находились в заведомо выигрышной ситуации. Ну, а поскольку ничего определённого от нас не требовали, мы оттягивались как могли: однажды написали готический рок-балет про курочку Рябу, а в другой раз выпустили на сцену танцевать самую красивую девочку под аккомпанемент совершенно скандальной песни Алексея Паперного с такими словами:
Но вот однажды некто Икс довольный и умытый
Ей предложил рабо-оту в отеле «Интурист»,
С тех пор её не видели ни дворник, ни бандиты,
Весна такая странная, спадает жёлтый лист.
Поразительно, но на все это вожатское хулиганство начальство лагеря смотрело сквозь пальцы, устраивая скандалы по гораздо более мелким поводам, вроде непосещения планёрки. В конце концов, от постоянного давления у меня сдали нервы и за три дня до конца смены я устроил разборку с сыном начальника лагеря. После этого меня со скандалом уволили, выплатив зарплату и даже — о парадоксы! — премию за отличную работу. Впрочем, я не уехал из лагеря, оставшись со своим отрядом до конца.
Мои воспитанницы обожали меня и даже пытались переписываться после того, как смена закончилась. Через некоторое время я написал для своих девочек песенку под названием «Принцесса», которая потом часто исполнялась на концертах и вошла в альбом 2012 года «Автостопом по облакам».
Ещё некоторое время я работал помощником педагога в лагере для детей-инвалидов. К серьёзным делам меня почти не подпускали (и, наверное, правильно делали), так что обычно я писал стихи и общался в своё удовольствие с ребятами, у которых были относительно лёгкие диагнозы, и единственной подопечной, пятилетней Верочкой, страдавшей синдромом Дауна. Ещё запомнился шестнадцатилетний мальчик Паша, у которого была тяжёлая форма аутизма. Огромный, фантастически сильный, он обладал интеллектом трёхлетнего ребёнка и целыми днями качался на качелях, громко мыча — его родители уверяли, что он поёт песни. Иногда он пытался поймать в охапку кого-нибудь из девушек-педагогов, и поэтому обычно они старались не попадаться ему на глаза. Терапия в лагере была довольно разнообразной: детей учили рисовать, играть на музыкальных инструментах (кстати, там я впервые увидел гигантскую тенор-блок-флейту), но самой главной фишкой было катание детей на лошадях. Практически все обитатели лагеря были участниками христианской духовной общины «Вера и свет». Её основатель, педагог-гуманист Жак Ванье, считал, что умственно отсталые дети находятся у Бога на особом счету, но я на богослужения не ходил. В общем, пара недель, проведённых в лагере, стали для меня чем-то типа писательской командировки.
В сентябре 1997 года я пошёл работать учителем истории в ту самую 624-ю школу, куда когда-то перевёлся в третьем классе и откуда сбежал в шестом. Со времён 1990 года обстановка в этом учебном заведении стала значительно спокойнее, а мои ученики-шестиклассники оказались замечательными ребятами; кроме того, в параллельном с ними классе учился мой младший брат и работала моя мать. Критически взглянув на мою причёску, директриса приказала мне собрать волосы в хвост. Мне была нужна педагогическая практика, и я не возражал.
На уроках я быстро понял, что мои ученики не умеют и не хотят учить историю в виде таблиц, графиков и дат — однако большинство из них были честолюбивы и стремились поучаствовать в чём-то интересном, чтобы получить высокую оценку. Приходилось искать свой подход к каждому. «Вот представьте себе Куликовскую битву, — объяснял я самым завзятым драчунам, — как можно победить в сражении небольшой компании воинов большую кодлу татар? Да князь Дмитрий просто спрятался за лесом, а потом налетел на них сзади и надавал всем по морде!» Через два дня это объяснение было ими творчески воспроизведено в самостоятельной работе, и я понял, что угадал. Правда, бывали и проколы. Как-то одна девочка написала про средневековые города с правами самоуправления (они назывались «коммунами»), что в Италии эпохи Возрождения был построен коммунизм. Пришлось объяснить, что коммуны и коммунизм — это не одно и то же.
Перед Новым Годом у меня оставался в расписании урок, который должен был пройти уже после выставления четвертных оценок. «Ну держись, они тебе устроят сабантуй», — предупреждали меня учителя, и я заранее разработал план действий. Войдя в класс, я понял, что меня никто не замечает, и изо всех сил швырнул на пол тяжеленный стул. Недоумённая тишина длилась секунд десять, но мне хватило и этого.
— Кто умеет играть в «морской бой»? — спросил я.
Поднялся лес рук.
— Тогда те, кто умеют играть в «морской бой», могут садиться на задние парты и играть в «морской бой», а остальным я буду рассказывать про индейцев! — сказал я.
Если не ошибаюсь, в результате в «морской бой» играло лишь несколько убогих второгодников. Зато потом мы устроили новогодний исторический КВН, куда мои воспитанники притащили гитару и на мотив песни Летова «Всё идёт по плану» исполнили какой-то невообразимый текст про эпоху географических открытий, а потом пригласили на свои новогодние вечеринки — одновременно в два класса. В результате мне пришлось бегать из кабинета в кабинет, а потом, собрав всех в одном помещении, устроить один общий концерт для всех… Пожалуй, этот вечер был самым трогательным за всю мою учительскую работу — тем более, что долго после этого она не продлилась.
После ухода из школы я долго не видел никого из своих учеников, и только однажды, когда ночью, нетрезвый ехал к родителям, чтобы переночевать, из темноты возле дома напротив мне навстречу вынырнула тёмная фигура. «Ну, всё, сейчас будут резать», — подумал я по доброй памяти начала девяностых. «Здравствуйте, Алексей Владимирович, это я, Слава Иванов!» — сказала фигура голосом одного из моих бывших учеников. Мы пожали друг другу руки…
Иногда я думаю, что, если бы я отдал себя полностью детям, я был бы хорошим учителем, как мои дед и отец. Но человек, постоянно ломающий голову над новыми песнями, творческими задачами, философскими проблемами, слишком неудобен для такой консервативной и, честно скажу ответственной отрасли как образование. И всё-таки я не хотел бы говорить «никогда». В жизни всякое может произойти — особенно, когда у тебя появляются собственные дети…
Доброе утро в Речанах
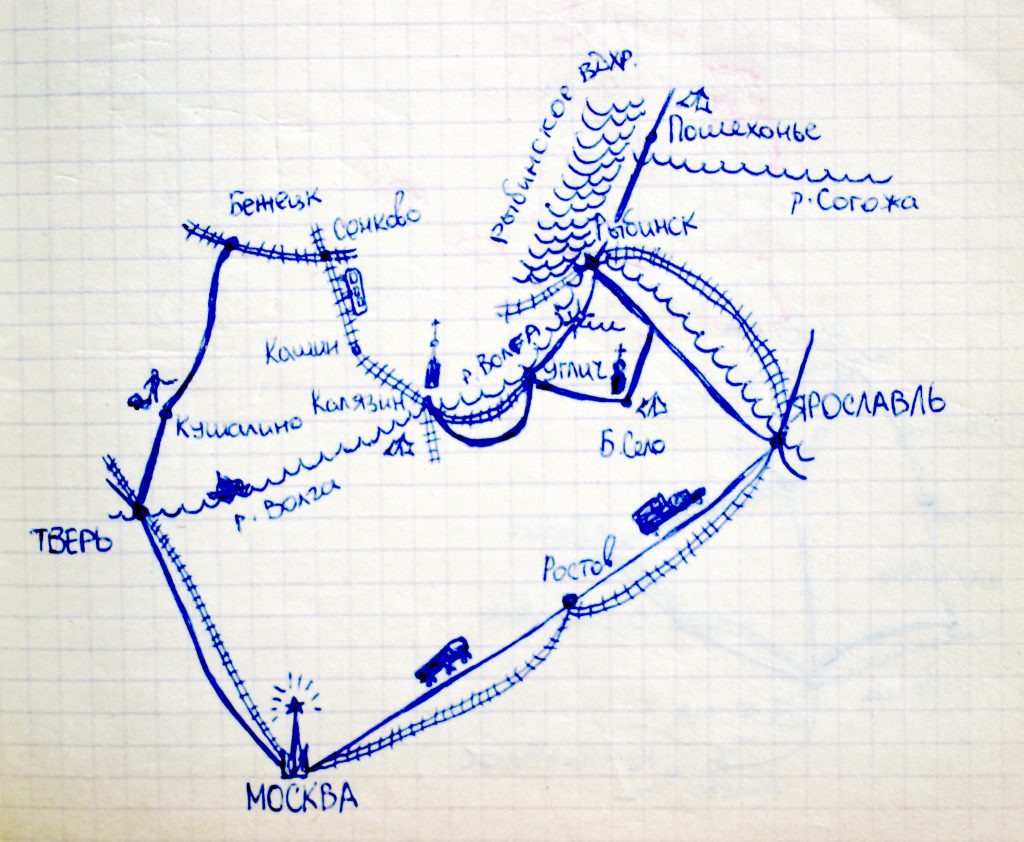
В августе 1997 года мы отправились в поездку на Селигер — я, Лиза, начинающий автостопщик Миша и участница выезда в Ярославль Маша Смирнова. Миша чувствовал себя на трассе неуверенно, и опытная автостопщица Лиза взяла его к себе в пару. Маша должна была приехать в Осташков поездом через два дня после нас и ехать, соответственно, вместе со мной. Мы стартовали по отдельности, договорившись встретиться неподалёку от Осташкова.
Миша и Лиза ехали не торопясь, я же быстро добрался до Торжка, где к полной неожиданности встретил музыканта Дениса Мосалёва — оказалось, что недалеко от Торжка живёт его бабушка. Пообщавшись с ним, я напросился в андреапольский автобус и через пару часов добрался до нужной развилки на трассе.
Поставив палатку, я оказался в полной темноте. Где-то далеко лаяли собаки, по дороге ездили мотоциклы. Не на шутку испугавшись, я пролежал всю ночь в обнимку с туристическим топориком, но, конечно, ничего страшного не произошло. Погуляв на следующий день по Осташкову, я выяснил, что без собственных средств передвижения путешествовать по Селигеру невозможно.
Собрав палатку после второй, не менее кошмарной ночи, я наспех запихнул её в рюкзак. Не поместившийся в спешке топор сначала хотел привесить на ремень снаружи, но, испугавшись того, что водители меня неправильно поймут, всё-таки изловчился засунуть его внутрь рюкзака. По счастью, к московскому поезду я успел без проблем. Там-то мы все вчетвером и встретились.
После таких приключений мне не хотелось оставаться в Осташкове, и по предложению Маши Смирновой мы перебрались на соседнее озеро Пено. Этот край сильно пострадал от войны: на пустоши у озера возвышался монумент деревне Ксты (в 1942 году эсэсовцы расстреляли и сожгли здесь 78 местных жителей), а в посёлке нам встретилась мемориальная доска памяти героини войны Лизы Чайкиной. Но едва мы расположились на берегу озера, как начался дождь, продолжавшийся трое суток. В таких условиях было нереально найти сухое топливо, развести костёр и приготовить обед. Спасли нас тверские рыбаки, державшие в сухости не меньше кубометра дров и угостившие котелком отличной ухи. Оставаться в Пено было незачем, и мы поехали дальше на юго-запад, через Соблаго и Андреаполь трассой на Торопец.
Машину от Пено пришлось стопить минут сорок. Остановились петербуржцы, едущие на дачу куда-то в сторону Волговерховья.
— Можем только до Соблаго подвезти, — извиняющимся голосом сказала женщина, сидящая за рулём, но зато взяла всех четверых. Мы проехали вместе пять километров, слегка успев рассказать о наших планах.
У нас с Машей никак не получалось покинуть Соблаго. Сначала нас хотел подвезти пьяный мотоциклист (почему-то в противоположную сторону), потом мы прокатились метров двести на асфальтовом катке, и только после этого нам повезло остановить УАЗ, ведомый местным учителем, ехавшим в Андреаполь. Дорога была кошмарна; около деревни Охват машина преодолела вброд небольшую речку. Сам Андреаполь оказался крошечным пристанционным посёлком, в котором главным тусовочным местом был вокзал, а основной достопримечательностью памятник советскому воину-освободителю, чья плащ-палатка напоминала рясу, а автомат в руках — крест. Дорога до Торопца была ещё менее проходимой, и мы преодолели её на поезде. Не приходилось удивляться, что именно здесь монголо-татарам окончательно надоело брести через заросли и болота, после чего они плюнули на планы по захвату Великого Новгорода и повернули обратно в степи.
Как и большинство городов Тверской области, в XVIII веке Торопец был полностью перестроен по екатерининскому плану и поэтому был похож на Торжок и Вышний Волочок. Разумеется, с тех седых времён Торопец изменился до неузнаваемости, и ближайшие к вокзалу дома были обычными пятиэтажками. В глубине города нам попались обветшалые особняки и несколько храмов. «ХРАМ ЗАГАЖЕН КПСС», — гласила нанесённая краской надпись на одной из колоколен; рядом, у старинной решётки лежали сухие цветы. Мостик через речку отделял исторический центр от окраины, состоящей из частных домов. Слева от дороги виднелся странный земляной кратер с высокими краями. В жерле его горели костры. Ощутимо повеяло средневековьем, но эти огоньки принадлежали не монголам и не археологам, а местной молодёжи.
Там, около городища, мы расстались с Машей Смирновой, решившей отправиться в посёлок Селижарово, где её ждали друзья. Нашей целью было достижение совхоза Речане, где, согласно карте, находился небольшой пруд, оказавшийся на практике просто-напросто водопоем. Там мы и заночевали, не найдя более ровного места для установки палатки.
К счастью, накануне у меня мелькнула мысль, что утром мы рискуем повстречаться со стадом рогатой скотины, что могло иметь непредсказуемые последствия, тем более что наша палатка была ярко-красной. Вскочив как можно раньше, я растолкал Лизу и Мишу, и очень вовремя: перед появлением коров, что мы успели только выскочить из палатки. По счастью, пастух отреагировал очень чётко, направив стадо дальше по улице. «Доброе утро!» — прокричал он нам. «Доброе утро!» — ответили мы.
Двигаться дальше на юго-восток не было смысла: там начиналась граница с Беларусью, так что мы решили через рижскую и киевскую трассы добраться до Пскова, и уже оттуда, с заездом в Новгород Великий, по петербургской дороге вернуться домой.
На чём я только не ехал! В районе Великих Лук меня подвозили друг за другом три молоковоза. В Пустошке, на перекрёстке двух трасс я ехал километров двести с одесским бандитом, боящимся того, что он находится в иностранном государстве, где у него нет связей. Потом я трясся в закрытой кабине грузовика, угадывая маршрут, когда водитель впускал и высаживал очередных попутчиков или останавливался, чтобы купить ягод.
В Пскове нам повезло полазить с местными металлистами по башням Кремля; с ними же мы и заночевали. На следующий день, прогулявшись по Новгороду и попев песен с неформалами, мы поставили палатку у стен Юрьева монастыря, где местное население традиционно ловило рыбу. В этот раз, кроме рыбаков, на Волхове обретался катер речного училища, ради шутки время от времени освещавший берег огромным прожектором. Впрочем, нас это не смутило: это была первая ночь, когда мы нормально выспались.
Дорога от Новгорода до Москвы оказалась чертовски тяжёлой. Из-за позднего старта к вечеру я проехал всего сто километров и завис в одном из самых неудобных мест — городе Крестцы.
До сих пор не люблю вспоминать эту холмистую дорогу с массой поворотов, тесно прижавшиеся к обочине дома, ровный поток машин. После трёхчасового простоя я осознал, что меня окружают просто-напросто невезучие люди — те, которые не везут, и всё… После того, как я едва не рухнул на проезжую часть, рядом со мной остановился грузовик с неопределённо иностранными номерами. Не веря в своё счастье, я подлетел к водительской двери.
Иностранец в водителе узнавался с первого взгляда — по широченным шортам и майке с надписью на каком-то малопопулярном языке.
— Moscow? — по-деловому осведомился он.
— Moscow! — ответил я радостно.
— Маттиас, — представился водитель, — Голландия. Я хорошо говорю по-русски. Моя жена русская. Её зовут Лариса.
Изредка переходя на английский язык, я выяснил, что он собирается доехать до Москвы к четырём часам утра. Но после Валдая количество машин на трассе значительно увеличилось.
— Что-то случилось, — уверенно заявил Маттиас, и действительно вскоре наш грузовик попал в плотную колонну машин, столпившихся у единственной работающей полосы на ремонтируемом мосту. По сигналу светофора поток устремлялся на мост то к Москве, то в обратную сторону. Включив радиосвязь, Маттиас долго выяснял что-то на непонятном языке.
— Это колонна финнов, и они никого не пускают, — пояснил он, — Они бандиты и звери, но я сейчас им сказал их же словами, чтоб проваливали.
Улыбнувшись, голландец сдал немного назад и вдруг начал набирать скорость — прямо в направлении финнов. Водители, до этого беспорядочно курившие на обочине, влетели в кабины и стали отводить свои малотоннажные грузовики в сторону: всё-таки это очень страшно, когда на вас летит многотонная махина «Volvo» с двумя рефрижераторными прицепами и включённой сиреной… Замешкавшаяся на встречной легковушка замерла посередине моста, но Маттиас и не думал сбавлять скорость. Включив заднюю передачу, бедолага ретировался.
Вылетев с моста, Маттиас торжествующе пронёсся мимо встречной череды машин и, только будучи уверенным, что всё неприятное позади, предложил выпить кофе. Осуществили мы своё намерение в кафе близ Куженкино среди выясняющих отношения армянских бандитов. Чтобы не заснуть, Маттиас продолжал разглагольствовать:
— Ночью тяжело ехать. Большое мастерство нужно. Смотри, видел? Ничего не видел? Только что мы могли сбить человека. Это была девушка. Проститутка. Их много тут…
Спать хотелось непреодолимо. За окнами пронёсся поворот на Торжок, непривычно яркие огни Твери, неудобно лежащий вдоль трассы Клин, Солнечногорск, Зеленоград… До Москвы оставались считанные минуты.
— Надо ещё кофе, — решил Маттиас и свернул к деревне Чашниково. Зайдя в кафе, я бросил опасливый взгляд на четверых местных парней, скучающих за столиком в углу, и заказал два кофе.
— Эй, твоя машина? Дай покататься! — развязно обратился ко мне один из них.
— Машина не моя, водитель — иностранец. Думаю, он вас не поймёт.
Взяв свой кофе, Маттиас решительно подсел к ребятам.
— Плохо понимать русский, — включился в игру Маттиас, — немецкий знать, английский знать, финский знать, русский знать плохо. Очень плохо. А знаешь, как по-французски «галка»?
— Как?
— «Щука». А как по-фински «жопа»?
Примерно через сорок-пятьдесят иностранных слов кофе было выпито, а любопытство молодёжи удовлетворено.
— Нам пора, — сказал я, — срочный груз везём.
Забравшись в кабину, мы с Маттиасом уже было успокоились, но тут в окно требовательно постучали: один из парней протягивал бутылку кока-колы.
— Слышь, передай: это от нас, от чашниковской братвы! — сказал он.


