1087 Views

«Beatles», исправленные и дополненные
Я услышал «Beatles» 15 августа 1990 года. Точно помню дату, потому что это был день смерти Виктора Цоя, и в гостях у Мещерского, где мы оказались в тот день, все только об этом и говорили. Переписав у Насти самопальный сборник лучших хитов ливерпульской четвёрки, я погрузился в музыку с головой, используя без спросу взятый у отца магнитофон «Hitachi». Месяцем позже итальянский муж ученицы моего отца Люды Бурделёвой привёз в подарок маленький магнитофончик «Phillips», обладающий тихим звуком и почти полным отсутствием низких частот. Этот волшебный аппарат стал моим верным другом на несколько лет вперёд, пока не рассыпался на запчасти от старости и смелых технических экспериментов. Музыку я слушал с утра до ночи.
Кроме музыки в «Beatles» меня интересовала также биография группы, которую я знал по книжке Хантера Дэвиса. Джон Леннон, тогда ещё не казавшийся психопатом и наркоманом, представал в ней в приглаженном образе провинциального бунтаря, сумевшего проломить головой стену. Сходство первых глав его лайф-стори с окружающим меня миром вселяло надежду, но в то же время обязывало к агрессивному нонконформизму. Всё это не противоречило нашей семейной истории, нашпигованной борьбой за справедливость и последующими гонениями за эту борьбу, так что мне было несложно воспитать в себе соответствующие идеалы — тем более, я был предрасположен к ним и раньше. Подсознательно я был готов бороться с оружием в руках хоть за «Green Peace» (как раз тогда вышла соответствующая советская пластинка), хоть за мир во всём мире.
Окончательное прозрение случилось 24 декабря (я запомнил дату, потому что потом это было для меня как день рождения). Я пришёл из школы, сделал себе какие-то бутерброды и сел у телевизора. Начиналась новостная программа, но я вдруг поймал себя на том, что не понимаю в ней и слова, и мои мысли заняты совершенно другим, внезапно свалившимся на голову открытием. Это была мгновенная вспышка — словно послание от ангела. Застыв как вкопанный с кружкой чая в руках, я понял, что всегда буду, чего бы мне это ни стоило, писать песни — чтобы Господь вложил в эту форму тот смысл, который сочтёт нужным.
Вообще с лета 1988 года я довольно часто сочинял более-менее серьёзные стихи — как правило, в очереди за молоком или хлебом, когда требовалось убить время, но божьей искры в них не было. Принципиально новым открытием в тот день для меня стало то, что теперь творчество стало смыслом жизни, знаменем, под которым я наконец-то встал на борьбу с окружающей действительностью.
Как начать писать песни с нуля? Это был сложный вопрос, на который мне пришлось искать ответ в одиночку. Для начала я решил определиться, о чём я вообще хочу петь. Обычно, насколько мне известно, в таких случаях люди пишут сначала один текст, потом второй, потом третий и так далее, пока им не надоедает. Я поступил иначе, первым делом, сочинив список своих будущих творений по их названиям — причём, на привычном мне английском языке. Кстати, эта особенность мышления у меня сохранилась и в дальнейшем: я всегда с удовольствием оперировал различными последовательностями песен, будь то концертная программа или альбом. Мне казалось, что музыка очень выигрывает, когда все песни стоят в нужном порядке, с общей логикой, композицией, образуя некое метасообщение, или, как это называется в роке, «концептуальный альбом».
В общем, первые пару дней у меня была небольшая разминка, как бы игра в игру: проектирование мифической англоязычной группы с названием «The Alienation» (впоследствии тема «чуждости» в моём творчестве стала типичной) и трек-листа их несуществующего альбома, но я чувствовал, что на выходе получается очередная детская глупость и отклонение куда-то в сторону от моей серьёзной, взрослой миссии. Разумеется, тексты, написанные на корявом английском, сильно выигрывали в русской интерпретации; вскоре английский язык остался только в заголовках, да и то ненадолго. Первый же пункт моего списка под названием «Forbidden Town» благополучно превратился в композицию «Запретный город» (её я записал в 2019 году для альбома “Дьявол и Господь Босх”), «The Poverty» трансформировалась в «Бедность», потом была сочинена первая уже полностью русскоязычная песня «Как давно», и так далее.
Конечно, по взрослым меркам почти все эти песни были слабыми, с примитивной, а нередко и заимствованной музыкой, но в двенадцать лет для меня было важнее постоянство творчества, чем его качество. И я стал писать много, мелодически ориентируясь на «Beatles», а в текстах пытаясь совмещать острые социальные темы с ностальгией по ушедшему детству. Игра в английскую рок-группу тут же стала неактуальной.
По написании двух десятков песен стало ясно, что для подлинной самореализации надо собирать хоть в какой-то степени реально существующую группу, и она, конечно, была тотчас организована под названием «Револьвер» — в честь одного из любимых альбомов «Beatles». Единственным участником группы, кроме меня, был Лёня Ваккер, тоже пишущий стихи — уже на протяжении полугода. Вся наша деятельность заключалась в совместном творчестве, так как ничего исполнить мы пока не могли. Свои песни я держал в уме ввиду моей полной неспособности овладеть музыкальными инструментами. Только спустя полтора года я смог подобрать этот материал на гитаре, и тут стало ясно, что лучше будет сочинить что-то новое.
Ни одно из тогдашних стихотворений Лёни Ваккера, по счастью, не сохранилось: писал он исключительно высокопарную гражданскую лирику — причём ужасающе бездарно. Помню, в декабре 1991 года отец, со свойственным ему издевательским юмором, сказал буквально так: «Вот кого обязательно надо публиковать, так это Ваккера. Особенно «Россию» (одно из наиболее пафосных стихотворений Лёни). Но только в сводках МВД».
Со временем Лёня расширил рамки жанра и написал несколько очень интересных рассказов в стиле панк. Лучшим из них был текст «Второе пришествие Наполеона Бонапарта»; действие происходило в психушке, откуда шизофреник, считающий себя Наполеоном, сумел завоевать всю Россию и стать президентом страны:
Маленький город N еще недавно был, пожалуй, самым живописным местом L-ской области. Обвалившиеся на хозяев деревянные домики ныне почти полностью покрывают собой территорию города; сваленные в кучу, они напоминают курган славы. Таким образом, N представляет собой гигантское кладбище, где у каждой могилы есть свой приусадебный участок с помидорчиками, огурчиками и прочим гнильём…
Лёнин стиль базировался на доведении до абсурда сатирической прозы, причём главным объектом пародии были непритязательные писатели-сатирики эстрадного жанра — типа Михаила Задорнова. Благодаря изобретательной и совершенно безжалостной к какому-либо смыслу игре слов, ловко выхваченные клише становились китчем в квадрате. Правда, в силу возраста и присущей ему легкомысленности, Лёня частенько заигрывался (запомнилась чрезмерно усложнённая фраза: «Они отмывали деньги в огромной раковине, но рак был против»). Я же, начитавшись ленноновской прозы, пытался соединять абсурдистику с интеллектуальными измышлениями.
Сочинял я песни, в основном, на автобусной остановке по пути в школу — в уме. Потом я стал писать тексты на уроках. Для меня это был уход из малоприятной реальности, и в случае какого-нибудь очередного конфликта с окружающими я говорил себе, что «пора уходить в андеграунд», подразумевая под этим самоизоляцию.
Обычно мы с Лёней неохотно удалялись от нашего двора. В одиночку или вдвоём можно было съездить только до одной из трёх ближайших станций метро или в хозяйственный магазин в 138-ом квартале: однажды там мы с огромным удивлением обнаружили кассеты «Beatles», «Led Zeppelin» и Боба Дилана производства фирмы «Мелодия». Надежда открыть что-нибудь ещё в том же духе с тех пор не угасала, но в продаже были только «Модерн Токинг». Другим важным стратегическим пунктом был магазин «Досуг» на Зеленодольской улице, где мы покупали дешёвые пластинки той же «Мелодии». Более дорогие диски «АнТроп рекордс» были нам не по карману, да и приобрести их можно было только в центре, в магазине «Молодая гвардия». По этой же причине мы не посещали фирменный магазин «Мелодии» на Новом Арбате. Коэффициент полезного действия советских пластинок был низким: по большей части они оказывались занудными и попсовыми. Приобретённый в числе других пластинок «Чёрный альбом» «Кино» я в то время не оценил — да и вообще по-настоящему полюбил «Кино» только в двадцать пять лет. Гораздо больше мне нравились пластинки Пола Маккартни: «Flowers in the dirt» и, особенно, «Снова в СССР», состоявшая из кавер-версий полузабытых рок-н-ролльных хитов пятидесятых годов. Изданная только в СССР, эта пластинка задумывалась как учебник по истории бита — и действительно стала им для меня.
На пластинках нам удавалось достать далеко не все популярные образцы рок-музыки, уже считавшиеся к тому времени общедоступными. «Beatles», например, были собраны по одной песне — все альбомы; но некоторых кусков всё же не хватало, и мне до сих пор эти композиции кажутся незнакомыми. Два ранних альбома группы переписал мне один из одноклассников — чем несказанно меня удивил, ибо обычно он был отягощён лишь проблемами полового созревания. Наплевав на мнение окружающих, я бродил по коридорам, задумчиво напевая любимые песни, а школьные тетради обильно украшал цитатами или хотя бы названиями композиций.
Встречаясь после уроков, мы сидели на лавочке у Лёниного подъезда (там было чуть спокойней, чем везде) или на крыше брошенного «Запорожца» за помойкой, сочиняли стихи, поверяли друг другу свои сердечные тайны и мечтали хоть о чём-нибудь светлом в жизни. Там-то мы и написали большую часть нашей детской графомании, пережив этот период крайне бурно, но зато чётко расставив жизненные приоритеты. Летом 1991 года окончательно стало ясно, что литературно-музыкальное творчество для нас не просто хобби, как втолковывали нам родители, а главная жизненная цель. И тогда мы активно занялись самообразованием. Лёня по объявлению в «Пионерской правде» поступил в какой-то театральный лицей, что впоследствии сыграло решающую роль в его интересах, а я начал донимать себя самостоятельными занятиями музыкой — поначалу с плачевным результатом.
Свои литературные опыты мы пытались совершенствовать за счёт чтения бешеного количества романтической поэзии девятнадцатого века, но сейчас я могу с уверенностью сказать, что она прошла мимо меня. Моя меломания повлияла на меня больше: я до сих пор подробно помню творчество сотен различных рок-групп и без труда могу сказать, что ценного из него я для себя вынес. Исторические книги, которые шли фоном в течение всего моего детства, я также помню во всех деталях (а что вы хотите, если в третьем классе моей любимой книжкой была двухтомная академическая монография «История Югославии»). О Лёнином понимании поэзии многое говорит то, что его любимым автором в то время был советский поэт Владимир Костров (заместитель главного редактора журнала «Новый мир»). Думаю, что ему, как и многим, попросту приходилось любить то, что находилось под рукой…
Три революции, и все без нас
Следующие несколько абзацев люди, сведущие в истории рок-музыки могут пропустить, но для прочих читателей мне всё же хотелось бы вкратце рассказать, что происходило с мировой рок-музыкой в течение полувека как с культурным явлением, и что именно в ней так нас привлекало. Надеюсь, эта глава приведёт в систему разрозненные факты, которые я упоминаю в книге.
Становление рок-музыки включает в себя три революции, каждую из которых отделяло друг от друга примерно десятилетие. Это было время, когда люди занимались творчеством на волне всеобщего энтузиазма и творили историю, не думая о сиюминутной коммерческой выгоде. В промежутках между этими творческими прорывами умещались небольшие периоды застоя, а также деятельность настолько масштабных коммерческих проектов, что их взлёты и падения не были связаны с какими-либо музыкальными тенденциями. В детстве я восторгался такими величинами как Элвис Пресли, «Beatles», «Queen» и «Pink Floyd», но познакомившись с музыкальным контекстом их эпохи, убедился, что зачастую группы «второго эшелона» были гораздо интереснее.
Первая рок-н-ролльная революция, означавшая факт рождения новой музыки, была, на мой взгляд, результатом двух процессов. С одной стороны, популярная музыка того времени (джаз) к этому времени усложнилась до малоудобоваримого элитарного состояния. С другой стороны, появились новые технические возможности — благодаря популяризации электрогитары и появлению блюзовых техник игры на этом инструменте, изобретённых негритянскими музыкантами. В сочетании с возможностями белых масс-медиа США всё это вызвало мощный качественный скачок и перерождение музыки для танцев в совершенно новую разновидность популярной культуры, целиком ориентированную на СМИ. Благодаря телеэкранам, грампластинкам и радио впервые в истории каждый подросток жил мечтой, что он сам может стать звездой, и это изменило мир популярной музыки навсегда.
Элвис, хоть и был королём рок-н-ролла, был далеко не единственной и даже не самой яркой звездой на небосклоне поп-культуры. Новоявленные продюсеры извлекали доход из всего, что обладало вокальными способностями; это позволило наиболее ловким (таким, как Фрэнк Синатра) сколотить состояния, а наиболее трудолюбивым (таким, как Энгельберт Хампердинк) петь одно и то же десятилетиями. Впрочем, к концу пятидесятых бит (наиболее динамичное направление рок-н-ролла) был вытеснен лирическими придыханиями, а король рок-н-ролла выдохся и потерял привычный драйв. Самый многообещающий конкурент Элвиса Бадди Холли, к несчастью погиб в автокатастрофе вместе с ещё двумя рок-звёздами. Это трагическое событие американские газеты назвали «днём, когда умерла музыка». Кстати, тут же стоило бы упомянуть, что слова «бит» и «битник» в американской культуре не имеют прямой связи: первое означает стиль музыки, а второе — декадентское поэтическое направление 40-60 гг., название которого образовано путём соединения выражения «разбитое поколение» и слова «спутник».
Причиной быстрой деградации рок-н-ролла было то, что предприниматели неохотно шли на риск. Новую балладу на четырёх аккордах (чаще всего, это были C-Am-Dm-G), уже принесшую доход, тут же перепевали десятки других исполнителей одновременно. Это казалось проверенным секретом успеха, но привело лишь к тому, что первые строки хит-парадов заполняли бездарности, творческих сил которых хватало лишь на одну эту песню (в народе эти однодневки получили не нуждающееся в переводе название «one hit wonders»). Но если в наше время в массовой музыкальной продукции ценится эротичность, фотогеничность, следование моде, вхожесть в элитарную тусовку, то в пятидесятых-шестидесятых попса щеголяла консервативной добропорядочностью и даже религиозностью, что было, конечно же, ужасающе занудно, зато очень прибыльно. Так произошло расслоение: с этого момента шоу-бизнес стал делать звёзд из ничего, а талантливые любители могли рассчитывать только на клубную сцену.
Именно в этот момент и появились весёлые и раскованные «Beatles», чья компетентность определялась совсем не рекламными фишками (хотя и там были свои ноу-хау — в частности, построенные на английском юморе интервью или использование Книги рекордов Гиннеса как рекламной площадки). Да, они оказались чрезвычайно талантливы — кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей — но многое было достинуто также благодаря профессионализму продюсеров Брайана Эпстайна и Джорджа Мартина, грамотному применению технических новшеств, а главное — гармоничному соединению различных музыкальных культур (бита, попсы, джаза, фольклора, песенок из кинофильмов) и тщательно продуманного имиджа музыкантов. Появление «Beatles» на некоторое время убило конкуренцию на корню: даже Элвис Пресли за всю жизнь так и не дал ни одного концерта в Великобритании. Из других ведущих британских коллективов «Rolling Stones» остались «вечно вторыми», «The Who» после первых четырёх альбомов сдулись, а наиболее перспективные — «Kinks» — не получили разрешения на въезд в США, что стоило им нескольких лет карьерных неудач. Впрочем, ярчайшей в своём амплуа бит-группе «Herman’s Hermits» даже американские гастроли не помогли.
На фоне музыкального взрыва тех лет параллельным курсом шли и другие процессы — секс-революция, массовая наркомания, левый экстремизм, борьба за права афроамериканцев и многое другое. Революция хиппи, происшедшая в 1966-1968 гг., была крайне разнообразной в мотивах протеста: тут досталось и вьетнамской войне, и трудовому законодательству, и консервативной морали. Если отмести в сторону все ситуативные, исторические влияния, то идеология «детей цветов» носила чётко выраженный гедонистический характер (пляжи, секс, наркотики). Зато в этике царила полная сумятица: пустоту, образовавшуюся после отрицания патриотизма, религиозности и культа семьи, хиппи беспорядочно заполняли восточной философией, экзистенциализмом, ницшеанством. Скоротечность культурного расцвета, думаю, объяснялась не только духовной бедностью, но и тем, что хиппи, благодаря своему мировоззрению, идеально вписались в общество потребления, стоило им войти в моду. Зато хиппи как никто олицетворяли собой дух активной, созидательной свободы, чего не было ни до, ни после.
Эпоха шестидесятых после непродолжительного времени психоделических экспериментов дала рок-музыке два больших направления — арт-рок и хард-рок. Первое, более интеллектуальное, стремилось привнести в рок-музыку элементы классического наследия мировой культуры, второе отдавало предпочтение драйву и напору тяжёлого блюза, но оба они стремились к усложнению форм и виртуозности исполнения — то есть элитарности. Вскоре из массовой культуры их вытеснило диско, и почти тут же появилась новая звезда — группа «Куин», синтезировавшая тяжёлый глэм-рок, арт-рок, джаз и поп-музыку почти с той же блистательностью, что и «Beatles» десятилетием ранее. Но к этому времени на фоне экономического кризиса и роста безработицы подросло новое поколение тинэйджеров, отказывавшихся участвовать в новой вакханалии потребления. Пришла пора третьей революции.
Если хиппи были движением оптимистов, то панки, пришедшие на смену ровно через десять лет, принесли с собой бунт пессимизма (примечательно, что некоторые музыканты — такие, как Игги Поп и Блонди — были участниками обеих революций). Пафос панков заключался в публичном самоуничтожении человека, но не личности — с соответствующим отрицанием любых норм и эпатажем. Бурных событий 1977-1979 гг. хватило для того, чтобы смести с музыкальной сцены любые проявления искусства ради искусства и полностью поменять сам звук рок-музыки, но, как и предыдущие революции, эпоха панка закончилась очень быстро.
Дальнейшая эволюция рок-музыки происходила уже без резких всплесков, главным образом потому, что основные культурные концепции были уже апробированы, и принципиально новую идеологию придумать было бы просто не из чего. Предвосхищая стихийные явления в подростковой поп-культуре, масс-медиа стали заранее создавать звёзд, чередуя коммерческий позитивчик а-ля хиппи и коммерческий эпатаж а-ля панк (так были придуманы «металлисты», «рэперы», «готы», «эмо», «гранж» и другие молодёжные субкультуры). Подлинный панк ушёл с массовой сцены, переродившись в несколько маргинальных направлений — хард-кор, альтернативу, индастриэл, «никакую волну». Единственным заметным обогащением рок-музыки с восьмидесятых годов (хотя реально этот процесс не прекращался никогда) было лишь привнесение в неё элементов этнической музыки различных народов. Кроме того, самостоятельным интересным явлением стала женская лирическая музыка в диапозоне от меланхоличных Сюзанны Вега и Тори Амос до взрывной Полли Джин Харви и драйвовой Изабель Жеффруа.
Всё вышеизложенное было для насв 1991-1993 годах легендой, мифом. Мы ничего не слышали ни о московской Рок-лаборатории, ни о Ленинградском рок-клубе. В окружающем нас мире никто не знал того о рок-музыке, что знали мы. Окружающее медийное пространство было заполнено убогостью и попсой (кто в то время мог предположить, что пределов несовершенству нет, и со временем она станет ещё более убогой?). И всё-таки нам не казалось, что время рок-музыки ушло — скорее, наоборот, мы ждали, что этот вакуум должен заполниться. И позднее мы действительно натыкались на множество любительских рок-групп, неумело бренчащих в квартирах и подъездах. Все они подражали самым различным стилям, все они были нашими братьями по вере.
Впрочем, во времена моего одинокого битломанского детства до этого было ещё далеко.
Мечты и таксопарк
1991 год стал для меня годом отважных, болезненных, но совершенно безрезультатных ударов головой об стену. Энергии было море, но тратить её на что-то полезное не получалось. Помню, в апреле я поставил себе задачу записать мелодии всех сочинённых к тому времени песен нотами. Получился трудоёмкий процесс с часовыми бдениями у фортепиано; писал я без длительностей и разделения на такты. Бессмысленность труда стала очевидной после первой же отбраковки безнадёжно неудачных вещей. Потом я стал такие чистки проводить постоянно.
Устраивали мы с Лёней и попытки записи своих песен, но до августа 1992 года ничего мало-мальски музыкального у нас не получалось по причине полного неумения извлекать ноты. Каждая новая попытка заставляла нас относиться к себе всё критичнее и критичнее, но на мотивацию это, к счастью, отрицательно не влияло: приходя домой, я включал песни «Beatles», и выключал музыку, только ложась спать. Это помогало верить, что всё загаданное обязательно сбудется. И мы жили так каждый день — в ожидании исполнения мечты.
Случались и курьёзные эпизоды. Например, 9 марта 1991 года Лёня повёз меня в ДК Карачаровского механического завода на литературный вечер поэтессы Ларисы Рубальской, стихи которой в то время были основой для многих попсовых песенок. Обуреваемый жаждой славы, после окончания вечера Лёня протащил меня через толпу коллекционеров автографов на сцену. Там он попросил поэтессу посмотреть наши незрелые произведения, и она, к моему немалому удивлению, дала нам свой домашний телефон, по которому мы даже пару раз отважно звонили.
В сентябре 1991 года Лёня обнаружил на доске объявлений своей 39-ой школы скромное объявление о наборе в кружок классической гитары, куда мы сразу же записались, выпросив денег у родителей. Подумав, я тут же привёл в кружок двух одноклассников.
Занятия проводились в актовом зале 19-го таксопарка. Было очень странно идти по этому многоэтажному гаражу в маленький зальчик, затерянный в глубине автомастерских. Преподавал нам взрослый малосимпатичный мужчина — по-видимому, бывший преподаватель музыкальной школы. Обучение было простым: описание основных аккордов и простенькие пьески композиторов средневековья были для нас верхней планкой (что не мешало мечтать об электрогитарах); некоторые, как я, впервые узнали, что гитару, оказывается, ещё надо и настраивать. К концу года выяснилось, что определённые таланты имеет только мой одноклассник Олег Соболь, которому наш учитель, в итоге, доверил разучить песню Высоцкого «Что случилось в Африке». Лёня и второй мой одноклассник никаких способностей не проявили и ушли из кружка, я же продолжал методично насиловать никак не дающийся инструмент. Покинул я курсы лишь в марте — после того как остался единственным учеником, ради которого учитель, конечно, не хотел приезжать в таксопарк.
Другим примечательным событием 1991 года была ноябрьская поездка моего класса, в которую по моей протекции взяли ещё и Лёню Ваккера, в Пушкиногорье — музей Пушкина в Псковской области, где поэт, по преданию, написал «Евгения Онегина». Результатом выезда было то, что мы с Лёней после долгих экскурсий несколько подустали от Пушкина, зато прониклись Лермонтовым (его двухтомник продавался в местном магазине) и написали по пачке подростковой графоманской чуши, на которую русская классика почему-то провоцировала больше, чем рок-н-ролл. Эти пафосные вымученные стихи я без жалости отправил в мусоропровод в 1998 году. Кроме того, было написано несколько песен на стихи Лермонтова — позднее, к счастью, полностью забытых, но давших начало куда более удачным опытам написания музыки на чужие стихи (например, Блока).
Последний день поездки ознаменовался жесточайшей дракой. Несмотря на то, что нас месило ногами десятка полтора человек, сильно ни я, ни Лёня не пострадали — нас спасла зимняя одежда, смягчившая удары. Пребывая в тяжёлой юношеской печали, мы стояли у какой-то покосившейся изгороди, смотрели на звёзды и чувствовали себя такими жертвами социума, какие Лермонтову и не снились — хотя справедливости ради отмечу, что по количеству свалившихся неприятностей осень 1991 года потом была неоднократно мной превзойдена.
Преодолеть одиночество и хандру можно было только одним способом — продолжать учиться играть на гитаре и писать песни. Я разбивал в кровь пальцы, пытаясь хоть как-то заставить их двигаться быстрей и точней. Получалось плохо: к концу года я умел переставлять лишь несколько аккордов и гонял эту последовательность часами. Новые песни сочинялись по-прежнему на память. Мамины ученики, которые частенько приходили к нам в гости, откалывали едкие шуточки в мой адрес. Я обижался и запирался в комнате. Проклятый инструмент словно издевался надо мной: в общей сложности я учился аккомпанементу полтора года, и только во времена группы «Происшествие» начал играть более-менее сносно.
Вскоре меня начали мучить сильные головные боли — разумеется, безо всякой связи с моим музыкальным обучением. В мае 1992 года я попал в больницу с повышенным внутричерепным давлением, мне сделали небольшую операцию, и я провёл в палате дней десять в одиночестве и депрессии. Там-то и произошло долгожданное: почти не пишущей ручкой я нацарапал на листке бумаги свои первые верлибры — «Одуванчики» и «Ты был королевским наследником». Первый из них был «учебным», но второй превратился в довольно часто исполняемую песню, во многом определившую моё авторское мировоззрение в начале девяностых. Судя по всему, именно в те дни я действительно стал поэтом.
Как-то в 2007 году я прибирался в квартире и нашёл в книжке закладку, вложенную туда, когда мне было лет примерно 12-13 — список ближайших планов. Оказалось, что все они были связаны с музыкой и сводились к желанию обладать недоступными для меня в то время аудиозаписями (сейчас странно представить, как можно сделать целью жизни поиск альбома «Procol Harum» «A Whiter Shade Of Pale»). Кроме этого, отмечалось стремление подобрать на гитаре какую-нибудь музыку, которую я, чаще всего, не знал по названию и имени исполнителя и потому обозначал какими-то ассоциативными фразами на английском языке.
Мой личный дневник пестрел подобными записями:
11.11.91. Я хочу попасть куда-нибудь надолго один. Например, в больницу…
19.11.91. Увидев по телевидению Ирину Аллегрову, я ещё раз понял, как же всё-таки, в сущности, ненавижу музыку!
19.01.92. Всё! Надоело! Меня заставляют не слушать андеграунд, стирать «Пинк Флойд» и писать туда классику, включать магнитофон на четыре часа в сутки, играть на гитаре не более, учить английский не менее, переводов в день столько-то, песен и стихов не писать вовсе. А я не хочу! Я перешибу все барьеры и буду делать всё, что захочу! ХИППИ HIPPY HAPPY. Кажется, я целую вечность буду писать эти слова: «happy hippy».
01.92. Отец считает меня симпатичным парнем, но со странностями. Вчера: «Лёша, почему от тебя девчонки не тащатся?» — «Я им ещё просто не пояснил, куда…».
02.92. Соседка по парте увидела, что я пишу какое-то стихотворение по-английски. «Дай почитать!» — «Не дам: вдруг поймёшь?»
03.92. Лёня написал совершенно дубовый текст под названием «Смех сквозь слёзы». При этом он ещё не определился, стихотворение это или песня. Также не вполне понятно, смех это или слёзы.
16.08.92. Сегодня приблизительно в 14.10 я сошел с ума. Смотрел телевизор, все программы — ужасные! Не знаю, какая из них меня рассердила больше, но я впал в буйство, схватил гитару и стал орать «Rock Island Line». Сломал медиатор. Найдя новый, стал орать снова, практически не владея собой. Соседи, думаю, все оглохли…
09.92. Два верных признака музыкального успеха: 1) когда тебя ругает Артемий Троицкий; 2) когда ты выпускаешь пластинки, и никто их не слушает.
12.92. Еду в метро; одноклассницы старательно меня подкалывают. «Леша, а кого ты любишь?» — «Не знаю. Птичек люблю. Кошечек люблю. Художника Матисса. Не знаю, кого ещё. Знаю только, что лошадей не люблю» — «Это нашу голливудскую улыбку ты называешь лошадиной, а наш смех — ржанием?» — «Какая разница, что я имею в виду, главное, чтобы ваши улыбки предназначались только голливудцам…».
На этом фоне наши ровесники упоённо постигали новорожденную российскую попсу, одеваясь в дрянную китайскую одежду. Вульгарный макияж моих одноклассниц я и сейчас вспоминаю с содроганием, хоть они и не были виноваты в этом: просто тогдашняя Москва, как и вся Россия девяностых, была по своей сути нищей провинцией, обочиной цивилизации и мировой культуры. Я же в своей изоляции напоминал неизвестный науке кусок шестидесятых, странным образом попавший в 1992 год. Я был изгоем, ибо знал, что такое «Rock Island Line». Одноклассники в лучшем случае знали, что такое «Кар-мен» и «Мальчишник». Это было наивно и по-своему удивительно, но при этом совершенно невыносимо.
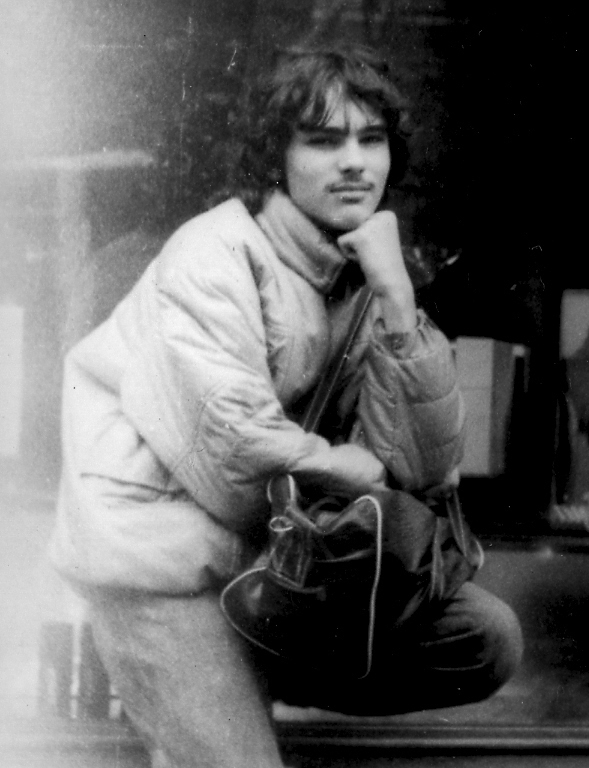

Звёзды школьного рока
Постепенно мы с Лёней начали ссориться из-за творческих разногласий. Мой друг реализовывал себя на совершенно непонятной и неблизкой мне театральной ниве, я же изнывал от невозможности сыграть свои песни и нерастраченных организаторских способностей. Иногда мне подыгрывала на пианино моя сестра Маша (мы с матерью в шутку придумали ей сценический псевдоним Мэджем Ли), и это помогало мне хотя бы психологически. Мне срочно требовался соратник-музыкант, и такой нашёлся — как ни странно, в моём классе. Звали его Виталий Феоктистов.
Человек он был своеобразный, себе на уме. Физически он был очень развит — мог подтягиваться на турнике, пока не остановят — но почти ни с кем не общался. По его мнению, основная задача музыки должна была заключаться в доведении музыканта и слушателей до оргазма — в прямом смысле этого слова. Досуг Виталия занимали мысли о мировой славе, сексе и психотропных веществах. Окончив музыкальную школу по баяну, он легко освоил гитару и был о своей игре крайне высокого мнения — впрочем, довольно заслуженно. Мне он аккомпанировал то на басу, то на соло-гитаре, то на баяне. Кроме любви к рок-н-роллу у нас с Виталием не было ничего общего, но выбирать мне было не из чего.
В середине апреля 1992 года после интенсивного обмена записками на уроке биологии мы всё-таки собрали школьную рок-группу, которая никак не могла приступить к репетициям сначала из-за плачевного состояния моего здоровья, а потом — из-за летних каникул. Название мы долго не могли придумать, пока не остановились на варианте «Эйфория», предложенном Виталием. Мне было всё равно, как назваться — я хотел играть. К тому же, я наконец написал первую песню, которую мог самостоятельно исполнить на гитаре. Тогда же я определился и со стилем, начав писать песни в классическом блюзово-рок-н-ролльном ключе с легкомысленными юмористическими текстами — в диком количестве, по 20-30 в месяц. Пафос наших с Лёней прокламаций не был забыт, а просто отложен на некоторое время, что повлияло на качество текстов самым лучшим образом. Оставалась главная проблема — отсутствие инструментов и денег на инструменты. К счастью, с этим нам опять помогли родители.
Обычную, акустическую гитару ещё в сентябре 1990 года мне подарил дед — когда-то ему вручили её ученики, любители авторской песни, после чего она пролежала без дела и первой струны почти десять лет. Инструмент Ленинградского завода обладал среднестатистическим плоским звуком и нечеловечески жёсткими струнами — что, вероятно, и послужило источником моих проблем в обучении. «У доминант-септ-аккорда есть такая особенность: в него входят четыре ноты, и ни одна из них не звучит», — шутил я. Эту гитару я постоянно таскал с собой и однажды, году примерно в 1994-ом, так достал мать своим музицированием, что она разнесла её на куски о письменный стол прямо над моей головой (я сидел на полу рядом). Я оставил на память несколько обломков…
В августе 1992 года произошло великое событие: я уговорил отца купить мне бас-гитару «Урал», за которой он согласился поехать со мной в подмосковный городок Электросталь. Это был довольно смелый шаг с моей стороны, так как на басу я не только не умел играть, но даже не понимал смысла игры: мой убогий магнитофон обрубал низкие частоты, и партия баса была просто-напросто не слышна (позднее я читал, что Андрей Макаревич в детстве сталкивался с той же проблемой). Таким образом, наличие бас-гитары неминуемо обязывало меня найти басиста или научиться играть самому. Я выбрал самообучение, тренируясь в аккомпанементе по пластинке золотых хитов «Shocking Blue» (подключить магнитофон и гитару к проигрывателю я догадался не без помощи Виталия к середине 1992 года). В результате у меня получалось играть более-менее пристойно, и когда мы с Виталием вместе играли «Чардаш» (его коронный номер на соло-гитаре), картины я не портил.
Итак, через несколько дней после покупки бас-гитары, 10 августа 1992 года, мы с Виталием собрались на первую настоящую репетицию и одновременно первую запись, названную Виталием не без иронии «Сдвиги есть!» Это был десяток песен моего авторства, в которых он играл импровизационные соло на бас-гитаре; плюс две чужие вещи — «Five Hundred Miles» (эта песня в 60-х исполнялась группой «Peter, Paul & Mary») и битловскую «Oh! Darling!» Впрочем, из моих тогдашних песен ни одна не прошла проверку временем. Несколько песен, правда, были записаны в пародийном проекте «Добрый вечер, Москва» (2000) в качестве иллюстрации школьного рок-н-ролльного творчества.
С того времени мы часто собирались то у меня дома, то у Виталия, и записывали по несколько песен моего сочинения. Репетиции по-прежнему проходили в режиме блюзовых импровизаций Виталия на темы моих песен, но ни одна песня не исполнялась дважды. К концу декабря я изобрёл какой-то дикий способ подключения гитары к проигрывателю, из-за чего звук перегружало так, что это уже не было похоже даже на металл — скорее, на сверхгрязный панк («Металлику» я тогда уже услышал, но принял без особого воодушевления). В таком режиме в январе 1993 года была создана ещё одна запись, запомнившаяся сверхсложным названием — «KAMAZ HQ UT-18» («КАМАЗ» высокого качества — типа смешно, а «UT-18» — название цветной фотоплёнки, которой мы тогда пользовались, — чтоб никто не догадался). Помню, как раз в то время однажды к нам в школе подошли пацаны-старшеклассники и со значительным видом сообщили, что у них есть группа, и сейчас они как раз записывают альбом. Мы, конечно, ответили, что занимаемся тем же…
Любительский школьный рок образца 1992 года ничем не отличался от любительского школьного рока шестидесятых, о котором так трогательно рассказывает Макаревич в своих мемуарах. Сохранились неизменными даже такие атрибуты, как звукосниматели из таксофонных трубок, собранные из учебных радиодеталей маломощные усилители. Впрочем, у нас с Виталием было и своё ноу-хау: подключение к городскому телефону и репетиции как бы «он-лайн».
Одноклассник Лёша Харьковской однажды нарисовал шарж на нас троих. На его рисунке Лёня спрашивает: «Интересно, какую пользу принесёт наша группа России?» Виталик обращается ко мне: «Мал ещё такие песни писать! Надо играть что-нибудь посерьёзнее, чем «Pink Floyd»: например, «Чип и Дэйл спешат на помощь»! Я — Виталику: «Надо будет написать песню об этом». Эти подписи, пожалуй, идеально отражают то, кем мы были.
Время от времени мы с Виталием пытались как-то пристроить свои прорезавшиеся таланты — в основном, конечно, по его инициативе. Первая попытка, в ДК АЗЛК, с треском провалилась из-за обиднейшего несовпадения распайки штекера с гнездом: это было распространённой проблемой в те годы, решавшейся обычно с помощью паяльника и припоя, которых у нас с собой не оказалось. Вторая попытка, приведшая нас в детский дворец творчества в Кузьминках (бывший дом пионеров), привела к тому, что я оказался в гитарном кружке некоего Сергея Крайнова, но так как занятия в нём были бесплатные, то и занятий особенно не было. Впрочем, нас с Виталием это не расстраивало, поскольку у нас была возможность вдоволь насмотреться на настоящих музыкантов: зал там был оборудован под репетиционную базу, где постоянно тренировались серьёзные и неразговорчивые рокеры. Кроме того, в отличие от таксопарка, учились мы на рок-произведениях, а это много значило и для меня, и для Виталия. Никаких дальнейших перспектив дом пионеров нам, естественно, не сулил, да и вообще возможность пробиться казалась гипотетической. Но если меня вполне вознаграждал сам процесс, то Виталий не упускал возможности заявить, что лично он мечтает только о мировой славе (в качестве образца приводился голландский гитарист Эдди Ван Хален), а всё прочее его не устраивает. В декорациях грязных весенних Кузьминок эти слова мне казались пустым бахвальством. Я шутил: «Сейчас состав нашей группы достаточно большой, чтобы удовлетворять нашим интересам — я и Виталик».
Записав песен сорок, в феврале 1993 года мы прекратили совместные репетиции, так как никакого прогресса в нашей деятельности, с точки зрения Виталия, не было. Однако через несколько месяцев произошло первое и единственное выступление «Эйфории», когда нас попросили написать и исполнить что-нибудь к Празднику чести школы — официальному мероприятию, где каждый класс должен был представить какой-то творческий подарок. При всей нашей нелюбви к родному учебному заведению мы согласились поучаствовать в мероприятии из элементарного честолюбия, после чего засели за панковскую переделку песни «Queen» «We will rock you», в которую вложили все скопившиеся отрицательные эмоции.
После написания сценария стало ясно, что нам требуется помощник. Им стал Олег Соболь, полутора годами раньше ходивший со мной на уроки в таксопарк и ставший там лучшим учеником (к сожалению, позднее он выбил себе палец на руке, в результате чего оставил гитару навсегда). Отрепетировав выступление, мы стали готовиться к беспределу.
После того как объявили выступление девятого класса «В», первым на сцену флегматично вышел Олег. Поставив посередине стул, он медленно надел тёмные очки и стал отхлопывать соответствующий ритм. Потом на сцену выпрыгнул я и сходу завопил в микрофон текст песни с таким драйвом и рёвом, что рефрен «Все мы любим школу» звучал полным издевательством. На втором куплете вышел на сцену и Виталий со своей электрогитарой «Урал», изобразивший эффектные «запилы». Кривлялись, орали и рычали, изображая степень своей любви к школе, мы невообразимо — но самое удивительное, что наши учителя, похоже, так и не заметили в этом сарказма, приняв всё за чистую монету.
Долгая дорога в Лондон

К марту 1993 года мой музыкальный мир был всё ещё заполнен «Beatles», но скудость окружающей культуры и любознательность заставляли меня находиться в постоянном поиске. К счастью, благодаря магазину «Досуг» на Зеленодольской улице к уже известным мне «Beatles» и «Pink Floyd» в мою фонотеку добавились «Rolling Stones», «Creedence Clearwater Revival», Дэвид Боуи, ранний Элтон Джон и буквально ошарашившие меня «The Doors». Русскоязычная музыка меня тогда совершенно не интересовала, хотя, судя по появлению пародийной песни под названием «Пока горит бензин», творчество Андрея Макаревича мне всё-таки было известно (припоминаю у Феоктистова кассету, выпущенную «Мелодией» под названием «В добрый час»).
Главным делом для меня оставалось написание новых песен, и прогресс в их исполнении был весьма ощутимым — особенно к началу 1993 года. Теперь я уже мог аккомпанировать себе на гитаре и, в случае необходимости, изображать из себя автора-исполнителя. Кроме того, у меня более-менее окреп голос, и теперь, когда я пел серьёзные песни, в этом иногда проскальзывало что-то взрослое. Самая удачная песня того времени, написанная в апреле 1993 года, обыгрывала социально-политические темы и носила вполне подходящее название — «Времена изменились». Несмотря на незрелый пафос и тривиальную последовательность аккордов, в этой вещи уже чувствовалось, что моё художественное мышление подошло к новой качественной планке.
То, что у меня появился крохотный круг общения, не решало проблемы одиночества. Мы с Виталием ничего не знали ни о «рокабиллах», ни о хиппи, ни о русском роке и, конечно, выглядели бы наивно даже среди условных «своих». Одноклассники обходили нас стороной: наша маниакальность была слишком явной и анахроничной. «Beatles» победили в моей стране слишком поздно: время их ушло, и развал закостенелого советского режима ничего мне не дал.
Иногда мне казалось, что мы никогда не вырвемся из этой пустоты. Всё окружающее было мелким и никчёмным. Сохранилось Лёнино письмо от 19 июля 1992 года, которое он мне написал из Тархан, родины Лермонтова: «Привет! Хочу тебя обрадовать — летом я в Москве. Смотри не застрелись из-за N. (шутка). Ну, всё, писать больше не о чем. Как приеду, позвоню. Твой друг Л. Ваккер». В другом письме Лёня призывал обворовать колхозное поле гороха и купить на эти деньги музыкальную аппаратуру…
Незадолго до первых репетиций в 1992 году у меня проснулась любовь к англо-американской традиционной песне, которую я слышал в исполнении друга и одноклассника моего отца — Володи Волкова. Это направление было совершенно независимым и самостоятельным относительно рок-музыки и, вяло взаимодействуя с ним, долгое время существовало обособленно, практически не меняясь со времени своего появления. Состояло оно из религиозных песнопений, народных песен, «песен протеста» 60-70 годов и просто ставших популярными песен под гитару. По сути, это была англо-американская модификация КСП. В то время я и не подозревал, что такие ребята как Ральф Мактелл и Билли Брэгг реально пели эти песни на улицах Европы, в переходах метро и что любой, даже я, мог стать одним из них.
Сборник песен «Rise Up Singin’» (что-то вроде «Запевай!»), составителем которого был патриарх американского фолка Пит Сигер, я переписал от руки. Исходной моей целью было извлечение из книги текстов уже известных мне в то время Боба Дилана и Пола Саймона, но, заинтересовавшись, я стал копать глубже и вскоре обнаружил целый пласт крайне мало известного в России материала. К слову сказать, композиция «Rock Island Line», известная, может быть, лишь среди историков музыки или любителей рокабилли, была подхвачена мной именно оттуда. Но самой красивой и интригующей песней была «Five Hundred Miles», принадлежащая перу Хэди Вест и исполняемая мной в адаптации Володи Волкова.
Приобщение к незнакомой музыкальной традиции вызвало новую тягу к подражаниям, и я написал несколько песен на английском языке, а также придумал название для группы — «Missing messengers» («Пропавшие посланцы» — типа, пошли за водкой и не вернулись). Однажды, примерно в 2005 году, мы даже сыграли под таким названием с Володей Волковым, но вообще моё англоязычное творчество, по-видимому, обречено на прозябание — из-за объективной практической неприменимости и плохого знания языка.
Однажды возникшая любовь к этой песенной культуре сохранилась у меня на всю жизнь и заставила перевести некоторые из них на русский язык. Думаю, мой английский стал гораздо лучше благодаря именно традиционной песне, а не «Beatles», где я отрывался от реальности настолько, что воспринимал в лучшем случае лишь названия песен — да и то как магические заклинания. Позднее я переводил и другие тексты — например, стихи американского поэта Чарлза Буковски. И в поэзии, и в песнях интересовало меня одно и то же — возможность сыграть в автора и попытаться за него найти самое лучшее словесное исполнение на моём родном языке.
Гораздо позже, в 2004 году, я уже умел и серьёзно перевоплощаться и, в случае необходимости, оборачивать идею песни в шутку. Например, куплет из классического блюза Мадди Уотерса «Baby, please don’t go back to New Orleans, oh I love you so — baby, please don’t go» я сопровождал жалобными воплями:
О, бэби! Не оставляй меня!
Не уезжай от меня к родителям в Нижний Новгород!
Я сниму новую квартиру! Я найду новую работу!
На целых четыреста пятьдесят долларов!
Только не уезжай, пожалуйста, не уезжай от меня
К своим родителям в Нижний Новгород!
Don’t leave me, babe!
Never go back to the Nizhny Novgorod city!
В 2003-2004 годах я перевёл — или, точнее, адаптировал — три англоязычных песни: «Источник несчастий» («Heart-headed woman») Элвиса Пресли, уже упомянутую «Baby, please don’t go» и «Suzy Q» (эта композиция получила известность в исполнении «Rolling Stones» и «Creedence Clearwater Revival»). В 2009-2010 годах на меня снизошло потрясающее откровение: за год я перевёл ещё примерно тридцать песен различных исполнителей, каждую из которых можно было сыграть под гитару. Лучше всех получились переводы «America» (Пол Саймон), «For no one» и «A day in the life» («Beatles»), «Tom’s diner» (Сюзанна Вега), «Dress» (Полли Джин Харви), «Too old to rock-n-roll, too young to die» («Jethro Tull») и другие песни. Я продолжаю переводить и сейчас, так что не исключено, что дело идёт к новому альбому, где я спою американские, английские, канадские и ирландские песни по-русски. Кроме того, я подумываю о книге под названием «История песен», где эти переводы будут сопровождаться небольшими статьями о том, где, кем и при каких обстоятельствах были сочинены эти песни, и как их история передана в русском переводе.
Вскоре я подружился с сыном Володи Волкова — Тимофеем, моим ровесником. В течение долгого времени мы с ним обнаруживали удивительное родство музыкальных вкусов (особенно в сфере панк-рока и хард-кора). Тимофей тусовался со своими одноклассниками в школе (которая, вероятно, была какой-то особенной, раз им нравилась), пил пиво, обсуждал какие-то творческие проекты. Однажды, благодаря широкой агитации, Тимофей умудрился добиться того, что композиция панк-группы «Adverts» «Gary Gilmour`s Eyes», повествующая о трансплантации донорских глаз, которые принадлежали казнённому на электрическом стуле убийце, заняла первое место в школьном хит-параде.
Понятное дело, в начале 1993 года среди засилья попсы о такой свободе мысли я и думать не мог. Идеи, излагаемые мной в песнях, как правило, ограничивались разочарованием в устройстве мира или насмешкой над ним; больше писать было не о чем, и даже теме несчастной любви в моих песнях не находилось места. Тем грандиознее и неожиданней было настигшее меня в конце февраля 1993 года известие о том, что я еду в Великобританию — в рамках программы международного обмена.
Эта поездка казалась похожей на чудо. Помнится, в тот день, когда мне сообщили, что я попал в число избранных, в школе произошла утечка пропана, и всех отпустили домой пораньше. Несмотря на запах гнилых баклажанов, разносящийся по району, мы с Виталием не стали удаляться от школы и, расхаживая по краю заснеженного футбольного поля, долго мечтали о моих лондонских перспективах. Помню, я зло шутил: «Чувствуешь, школа пропахла дерьмом, приблизив свой внешний образ к внутреннему содержанию?»
Пределом желаний для нас была покупка хорошей гитары (неудивительно, ведь все ездили тогда за границу только за вещами). Но вид грязных Кузьминок никак не давал поверить, что всё это может стать реальностью, и мы не очень-то верили моему счастью, боясь, что ничего из задуманного не осуществится. Более реальной идеей мне казалось найти какие-нибудь редкие записи, и, приехав домой, я тут же стал составлять привычный wish-лист.
Это был редкий случай, когда почти все загаданные желания сбылись — разве что, в ту поездку я не купил себе хорошей гитары, а Виталий уже много лет живёт во Франции, где, наверное, может исполнить свои детские желания, связанные с музыкой — если они, конечно, до сих пор для него актуальны. После тех мечтаний на школьном стадионе мы играли вместе буквально несколько раз (и то спонтанно, по случаю), и никаких общих мечтаний в нашей жизни уже не было. Поездка в Лондон стала (да иначе, наверное, и быть не могло) моим личным опытом.

