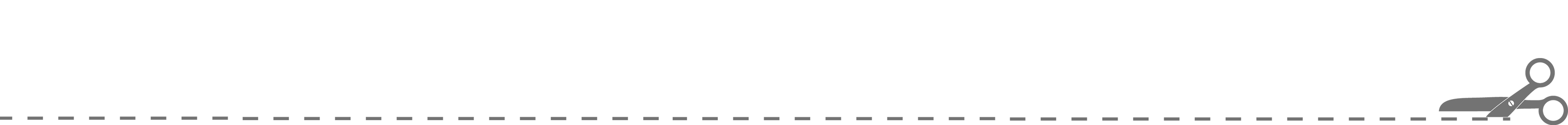202 Views
Афанасьев или Любовь к чистой обуви
Так случилось, что в 1971 году Дангулов сманил меня к себе — в журнал «Советская литература» (на иностранных языках) — в качестве его первого заместителя и ответственного редактора французского издания («Произведения и мнения»). По неопытности я совсем не подумал о судьбе его тогдашнего единственного заместителя Афанасьева Бориса Мануиловича. Может быть, потому, что тот оставался работать в старом здании, на ул. Добролюбова. Я же воцарился в хоромах на Шевченковской набережной и вскоре исполнял обязанности главного редактора (во время отпуска Дангулова), что и определило ревнивое ко мне отношение Афанасьева.
Он за моей спиной «информировал» коллектив, что меня не утвердили первым замом, оставив просто ответственным редактором французского издания. Впоследствии оказалось, что это правда, хотя мне никто ничего не говорил (о том, что я не был утвержден первым замом я узнал только через год во время обмена партбилетов! — такие были нравы). Зарплата осталась та же, но отношение ко мне Дангулова заметно изменилось…
Итак, удачно поинтриговав и сохранив свою позицию второго лица, Борис Мануилович подобрел ко мне. Приходил поболтать, учил готовить растворимое кофе так, чтобы оно было с «каймаком», рассказывал всякие байки.
Например, — как он выбрался из Берлина в 1941 году. Он находился там нелегально. Узнав о начале войны рано утром 22 июня, Афанасьев немедленно покинул место своего обитания, чтобы больше туда не возвращаться. Прошел мимо нашего посольства, увидел, что оно уже оцеплено, заблокировано.
Что делать? Поняв, что все равно деваться некуда, направился прямо к воротам посольства, кинул через плечо по-немецки «Надо!» и… беспрепятственно прошел. Наши встретили его восторженными объятиями, но минут через пять смекнули, что можно воспользоваться необычной ситуацией и попросили его еще раз выйти в город, уладить какое-то срочное дело и, пока не сменили караул, вернуться. Что он и проделал с тем же невозмутимым спокойствием пройдя через оцепление туда и обратно. Потом уж вместе со всем составом дипломатического корпуса через Константинополь был репатриирован…
Как-то раз, когда я завел речь о Бормане, он небрежно бросил: «Он умер в Костроме…» Подробностей из него вытянуть не удалось, но было похоже на то,что Борман попал в наши руки и из него тайно выдаивали все, что он знал (не отсюда ли фантастическая версия, что он еще при Гитлере работал на нас?)
Борис Мануилович Афанасьев был сибарит, холостяк, в редакции прохлаждался, ничего не читал, не редактировал и не был способен составить даже деловую записку — обычно кому-нибудь поручал или диктовал старой, весьма грамотной машинистке (вообще ничего не писал от руки — не любил оставлять следов).
Особой страстью его была обувь. Он частенько гонял машину по разным магазинам, придирчиво и со знанием дела выбирал туфли и опять являлся на работу в сверкающей обновке. Умер он в одиночестве. Сколько пар обуви осталось после него?..
Но, оказывается, осталось еще кое-что.
Звонит мне как-то Егор Герасимов, мой сосед и друг, бывший сослуживец: «Читал ли ты сегодняшнюю «Литгазету»? И зачитывает строки из статьи А. Ваксберга «Немой заговорил» («ЛГ» от 8 июня 1994):
«Судоплатов впервые называет имена непосредственных убийц знаменитого перебежчика Игнатия Рейса (Порецкого)… стрелял вовсе не несчастный С.Я. Эфрон, а офицер Лубянки, болгарин Борис Афанасьев, а также брат его жены…Афанасьева (его настоящее имя Атанасов) знали многие: еще в семидесятые годы Борис Мануилович… работал заместителем главного редактора…» и т.д.
А через несколько лет в «Российской газете» от 10 апреля 1998 года в статье Н. Паклина и В. Печерского «Шпионская война без перемирий» натыкаюсь на следующие строки:
«В марте 1936 года Троцким всерьез занялась советская разведка. В троцкистский центр в Париже, который возглавлял сын Троцкого Лев Седов, был внедрен советский разведчик, болгарин по национальности, Б.М. Афанасьев. С 1936 по 1938 год он вместе со своим помощником основательно опустошил архивный фонд Троцкого…В похищенных архивах оказались списки и адреса лиц из троцкистского подполья. Лучшего подарка для Сталина было и не придумать»… Вот так: живешь и не знаешь, кто с тобой рядом…
И только теперь один эпизод у меня связался с его именем. Я надумал опубликовать переводы на французский язык 11 стихотворений Пушкина, осуществленные Мариной Цветаевой. Ариадна Сергеевна согласилась — передала мне через кого-то тексты (к сожалению, я так и не увиделся с нею — лишь по телефону разговаривал). Но Дангулов вместо того, чтобы похвалить меня, набычился: «Зачем вам Цветаева? Это одиозная фигура. К тому же сейчас не рекомендуется возвращаться к репрессированным…» Я страшно удивился и сумел его разубедить («не одиозная и репрессированной не была!»), тогда он ткнул в «1937» год, упоминаемый мной во врезке: «А это зачем?» «А это столетие гибели Пушкина! Цветаева перевела к юбилею!» Дангулов нахмурился: «Так и пишите. Но год указывать необязательно.» На том и порешили. Но все-таки он сократил подборку — напечатаны были только четыре перевода.
Я долгое время думал, что анекдотический этот случай объясняется невежеством Дангулова. Теперь лишь догадался, что его против Цветаевой настраивал Афанасьев. Были у него причины не желать возвращения ее имени из небытия: он же «работал» с ее мужем Сергеем Эфроном и когда того арестовали, наверняка (по крайней мере!) свидетельствовал против него. Теперь уж не узнать…
Мария Будберг
Целые миры проплывают мимо, не задевая нас. Миры «в себе», закрытые для постороннего глаза, тем более — не ведающего… Так я в 1968 году увидел Марию Будберг (Муру) и не очень ею заинтересовался…
Отмечалось столетие со дня рождения Горького, был прием в кремлевском Дворце съездов. В верхнем зале собрался тогдашний бомонд. Все стояли, ели (а ля фуршет) затем, после речей и тостов, задвигались, общаясь. Я прежде всего протиснулся в правительственному, перпендикулярному остальным, столу, где продолжали стоять, как на выставке, Брежнев, Косыгин и другие главари. Можно было подойти достаточно близко, разглядывая их почти в упор — времена стали полиберальней. Потом, прогуливаясь среди жрущих и пьющих сановников и знаменитостей, я обратил внимание на единственную женщину, которая позволила себе сидеть. Пожилая, грузная, в чем-то темном она тяжело опиралась на толстую палку. Я спросил у кого-то:
— Кто это?
— Баронесса Будберг. Та самая…
Я смутно вспомнил, что она имела какое-то отношение к Горькому в Италии, но тогда не соединил ее с Закревской, которой посвящен «Клим Самгин». Поглядел и пошел дальше, но не забыл…
Теперь, прочтя «Железную женщину» Берберовой (тоже железной!), я подивился, как непроницаемо соприкасаются миры и времена, в них заключенные. И еще пришла в голову кощунственная, может быть, ассоциация — случай в одесском троллейбусе.
…Народу много, душно, вдобавок какой-то инвалид нависает над сидящей здоровенной бабой и настырно, занудно всячески обзывает ее за то, что она ему, калеке, не уступает место. Наконец, кто-то не выдерживает и одергивает сквернослова:
— И што ты к ней прицепился? Она же женщина!
— Она такая же женщина, как я мужчина! — последовал немедленный ответ. Наступила разрядка. Вагон заулыбался и весело покатил дальше. Эпизод чисто одесский, немыслимый в Москве, но не в этом дело. Легендарная Мура, вскружившая голову стольким знаменитостям, прошла перед моими глазами как существо не очень отличающееся от той тучной пассажирки в одесском троллейбусе. Женщины порой неузнаваемо преображаются, словно бабочки — в гусениц (бабочки в баб?).
Справедливости ради отмечу, что за перпендикулярным столом выстроились напоказ Брежнев со товарищи, тоже весьма сомнительные мужчины, старцы с каменными лицами, олицетворители сверхдержавы периода упадка. Еще ассоциация. Последней съезд союза писателей, чья-то реплика:
— Смотри, в президиуме ни одной женщины. Да, пожалуй, и мужчин почти нет…
А Мура знавала настоящих мужчин.
Что она думала, свидетельница рождения этого государства? Мура, послужившая и тем, и этим, приглашенная на старости лет в Кремль как почетная гостья?
Женщина и смерть
Горький написал «Девушку и смерть». По мнению Вадима Баранова писатель принял смерть из рук женщины, которую когда-то любил…
О роли М. Будберг в этом страшном деле доктор филологических наук круто и увлекательно рассказал в статье «Исполнитель зловещей воли?».
Очередная сенсация? Мало ли было в последнее время спекуляций на тему «убийства» Есенина и Маяковского! И даже Блока. Но в версии В.Баранова что-то есть. Не буду пересказывать статью, хочу лишь как литератор порассуждать, то есть представить себе предлагаемые обстоятельства и возможное поведение участников этой «шекспировской» сцены.
Начало июня 1936 года. Горький смертельно болен, но его могучий организм в состоянии отодвинуть летальный конец на неопределенный срок. И тогда Сталин посылает Марию Игнатьевну Будберг отравить писателя. В. Баранов пишет: «Большого ли труда стоило Сталину убедить Будберг сделать такой шаг?»
Вот это как раз мне кажется психологически невозможным.
Сталин был опытен, коварен и чрезвычайно осторожен. Мог ли он предложить нечто подобное иностранке с двойным или тройным шпионским прошлым? Мог ли он довериться авантюристке?
И могла бы Мария Игнатьевна, будь она трижды «железной женщиной» принять такое предложение? Даже сам ее «обвинитель» В. Баранов говорит: «Наверное, и у железной женщины нервы были все же не из железа, и чем-то дорог ей был этот человек…»(то есть, Горький).
Скорей всего Мария Игнатьевна была использована для определенных целей, но могла и не понимать этого. Могли ей, например, намекнуть, что врачи не так лечат Алексея Максимовича, что вокруг его одра происходит тайная борьба, что он в опасности (политическая паранойя в стране к тому времени была уже достаточно выражена) и что только очень близкий и доверенный человек может «подстраховать» больного, тем более, что он просит то-то и то-то, а ему не дают. Надо дать, но так, чтобы и медсестра (Липа Черткова) не знала…
Но оказалось «поздно». В. Баранов пишет: «Когда Черткова снова вошла в комнату, она увидела, что Мария Игнатьевна стоит у окна, упершись в стену лбом. Потом вбежала в другую комнату, бросилась в слезах на диван, говоря: «Теперь я вижу, что я его потеряла… он уже не мой».
Думаю, что Будберг не была такой уж преданной сообщницей Сталина. К тому же нет полной уверенности в том, что она привезла из Лондона ту часть секретного горьковского архива, которую он ей оставил на хранение в 1933 году. Л. Спиридонова, например, в книге «М. Горький: диалог с историей» утверждает, что упомянутый архив так и не попал в руки Сталина.
Вполне возможно. Недаром архив продолжал интересовать нашу разведку и много лет спустя. В 1958 году Л. Никулин был командирован к Будберг в Лондон, но вернулся ни с чем. Так до сих пор нет следов этого архива. Сама Будберг настаивала на том, что чемодан с рукописями и письмами Горького пропал в Эстонии, где она его оставила перед войной.
Что до смерти Горького, то приходится все-таки сомневаться, что он умер «без посторонней помощи». Уж очень вовремя он сошел со сцены, да и сам Сталин не зря педалировал версию об его отравлении, только по обыкновению перелагал вину на других — на тех, кому Горький как раз не мешал — на Бухарина, например…
Не может быть
В издательстве «Советский писатель» выпускался мой сборник «После полудня». Был уже готов макет, и тут, как на зло, вышло высочайшее постановление печатать стихи «колбасой», в подбор — ради экономии бумаги. Редактор разводит руками: придется переделывать…
Иду к Числову, главному редактору, прошу учесть, что я сто лет не издавался, и сборник — к юбилею…
— Нет. Вот постановление «…никаких исключений»! — и дает мне почитать. Действительно, «никаких исключений», но дальше не точка, а запятая, за ней волшебное слово: «кроме…», и перечень: «…кроме лауреатов госпремий, членов Секретариата…» и т.п. Я сражен. Для этих «кроме» я рылом не вышел.
Через несколько месяцев одновременно с моей книжкой там же выходит сборник Виктора Ш., и я с изумлением вижу, что каждое стихотворение напечатано отдельно!
Назавтра в поликлинике Литфонда сталкиваюсь с Числовым:
— Как же так, Михал Матвеич? Вы мне отказали, а Виктору Ш. разрешили, хотя он даже не член Союза писателей!
— Не может быть!
— Так у меня его книжка, он мне подарил! С надписью.
— Не может быть! — раздраженно отрезал Числов и быстро удалился. За ним стояла система с ее не только большими, но и маленькими тайнами.
Сочинил за Цветаеву
Однажды в молодости, собираясь наизусть прочитать кому-то стихи Марины Цветаевой «Идёшь, на меня похожий…» (ее в те годы не издавали), я вдруг испуганно обнаружил, что забыл две строки. Пришлось быстро досочинить (выделяю курсивом!):
Прочти, на камне старинном,
Где стерся от времени след,
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Потом вспомнил как у Цветаевой на самом деле:
Прочти, слепоты куриной
И маков нарвав букет…
Большая разница. «У меня» нечто общелитературное. У нее — свое, зримое, конкретное…
Оля Мещерская и поэты
В замечательном рассказе «Легкое дыхание» (1916) Бунин пишет: «Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья…» В том же году Мандельштам опубликовал в «Альманахе Муз» стихотворение «От легкой жизни мы сошли с ума…» Через строку есть и «веселье». Лихорадочная «легкая жизнь» тоже сопровождается призраком обреченности:
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка…
Не точный ли образ Оли Мещерской? Предчувствие ее гибели… Стихотворение Мандельштама (созданное за три года до публикации), никак не могло быть навеяно рассказом Бунина. Правдоподобней предположить обратное. Это стихотворение в свою очередь явно перекликается со стихотворением Ахматовой того же 1913 года, но написанным неоспоримо раньше — 1 января: «Все мы бражники здесь, блудницы…» Там тоже нечто вроде пира во время чумы:
О, как сердце мое тоскует!
Не смертного часа ль жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
Похоже, перед нами не просто цепочка влияний. Или совпадений. Скорей всего, такое носилось в воздухе. Трагическое веселье в последний предвоенный год. И не за горами уже катастрофа 1917 года…
Странные сдвиги
Маяковский в статье «Как делать стихи» цитирует Зинаиду Гиппиус в контексте «новой стихии языка», поисков новых форм, — цитирует, перевирая и не обращая внимания на смысл:
Мы стали злыми и покорными,
Нам не уйти.
Уже развел руками черными
Викжель пути.
Пусть неточно, но ведь запомнил и знает в чем дело! Это яростные контрреволюционные стихи «Сейчас», помеченные 9 ноября 1917 года:
Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!
Лежим, заплеваны и связаны
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.
Столпы, радетели, воители
Давно в бегах.
И только вьются согласители
В своих Це-ках.
Мы стали псами подзаборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель — пути…
А в свою очередь Гиппиус в «Черных тетрадях» 5 января 1919 года записывает:
«В октябрьские торжества внесли плотнище с хамской рожей и хамскими словами внизу, хамски и жидовски начертанными:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!
Это его — нежного Блока слова!!»
Да не его! Что за странный сдвиг? Это — один из голосов многоголосных «Двенадцати».
Шалости Эпштейна
В «Новом мире» (№8,1996) М. Эпштейн публикует «заметки Ивана Соловьева», которые, похоже, сочинил он сам. В них он приходит в парадоксальному выводу, будто наступает время поэзии средней, без авторской индивидуальности. Пусть неверная, но оригинальная концепция подхлестывает мысль. Но удивляют перехлесты. Например, его высказывание о пушкинском стихотворении «Я вас любил…»:
«Если вчитаться в этот поэтический перл, то ничего, кроме поэтического состояния и грамматики, в нем не найдешь, никакой силы самобытного творчества, фантазии, воображения, глубины. Пушкин был мастер таких сочинений средней руки, к которым каждый может приложить и свою руку — и расписаться как под выражением своего состояния».
Странный подход. Как бы с точки зрения школы Северянина — школы аффекта и эффекта. Но Северянин тогда и не предполагался. Хотя… уже появился Бенедиктов. Говорят, Пушкин на мосту однажды услышал чей-то разговор: — Разве это поэзия? Послушай: «Тогда, Онегин, я моложе и лучше, кажется, была…» Так и я могу сказать.
Пушкин посчитал это высшей похвалой. В искусственной форме, да еще онегинской строфе, добился такой естественности, такой непринужденности речи, что она выглядит нерукотворной!
Пусть прохожий думает, что и он так может…
Перепевы
Как-то на Пицунде перед читателями Давид Кугультинов вдруг прочитал стихи, которые… я давно собирался написать. Еще со студенческих лет я записал строчки (дальше почему-то дело не пошло):
Я не помню своего начала,
Не запомню своего конца.
Человек «для себя, внутри себя» не имеет ни начала, ни конца, он как бы бессмертен. Извне видны его пределы. Примерно то же высказал и Кугультинов и, пока я сокрушенно удивлялся совпадению, он продолжал:
— Я дал подстрочник этого стихотворения Маршаку. Тот прочитал, близко приставив листок к глазам, и откинул его: «Голубчик! Вы меня обокрали. Я собирался написать это стихотворение…»
Еще совпадение. Читаю и Бориса Слуцкого («Нева» 2,1987) «Розовые выпишу очки…» и т.д. И сразу вспоминаю Вячеслава Стерина, приятеля литинститутских лет, стихотворца-любителя. Из груды стихов, которыми он меня обчитывал, остались только две строки:
Граждане, чтобы жить веселее,
Подайте на розовые очки!
У Стерина, пожалуй, сильнее, чем у Слуцкого.
Отказ от авторства
У Владимира Соколова одна строка стала знаменитой. В Русской мысли» от 6-12 марта 1997 статья Виталия Амурского, посвященная памяти поэта, так и названа: «Я устал от двадцатого века». Между тем сочинил (или первым сочинил) эту строку я. Но по порядку.
В упомянутой статье из «Русской мысли» приводится рассказ В. Соколова о создании стихотворения «Я устал от двадцатого века»:
«Я написал это стихотворение в конце 1988 года. Я был тогда в гостях в Болгарии. По телевидению было передано сообщение о землетрясении в Армении. А перед этим шли события в Карабахе, шли события такого тяжелого свойства по всей стране. Мне это землетрясение показалось чем-то переполнившим чашу терпения…» И далее: «Мне было страшно написать строчку «Я давно уже не человек». Но я заметил, что если страшно что-то написать, то это необходимо сделать…»
Правда, Соколов смягчил эту строку следующей: «Я давно уже ангел, наверно…» (и далее), но с тех пор цитируют только первые четыре строки:
Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.
А вот что произошло со мной. В семидесятых годах (где-то среди дневников есть запись) у меня сложились строки — вроде как чей-то голос, полублатная песенка:
Ах, ушла моя верная вера
В идеалы, друзей и жену.
Я устал от двадцатого века,
А до нового не доживу…
Дальше дело не пошло, да и последняя строка (хотя голос как бы не мой) суеверно покоробила. Шли годы. Строка «Я устал от двадцатого века» жила в памяти и требовала права на жизнь. И вот в конце семидесятых я написал стихотворение «Полночь», куда и пристроил неиспользованную строку:
…Я устал от любимых поэтов,
прежде срока ушедших во тьму,
от красавиц, ими воспетых,
от наветов и пистолетов:
кто при гениях был? почему?
у кого искали ответов
и стихи посвящали — кому?
…Я устал от двадцатого века.
Новый пустит ли нас на порог?
Что за полночь! Фонарь и аптека…
Но в глазах у поэта упрек.
и т.д.
Но когда дело дошло до печати (это было еще при Брежневе), пришлось cгладить: вместо «Я устал» появилось «Ты устал», и в таком виде стихотворение вошло в сборник «После полудня» (1981 г., стр. 18). В последующем издании, в «Книге лирики» был восстановлен правильный текст.
Вполне возможно, что Владимир Соколов самостоятельно открыл эту строку (через семь лет). Может быть, она носилась в воздухе. Кстати, она могла сложиться, наверное, только у русского поэта. Другому она не пришла бы в голову, — на румынском, например, не получается такой поэтической «формулировки». Совсем не так звучит: нечто вроде «я утомлен двадцатым столетьем».
Но не исключено, что моя строка осталась у Владимира Соколова где-то в подсознании, я ведь дарил ему свои книжки, и он их читал. Хорошо помню, как он из сборника «Голоса» выделил стихотворение «Потребители», удивляясь, как оно «проскочило»… Однако, если всерьез, то при всех доказательствах моего авторства нет у меня «авторских прав». У Соколова строка заиграла, а у меня безнадежно затерялась. Победа за ним.
У Жуковского строка «Гений чистой красоты» встречается дважды, и раньше, чем у Пушкина. Но по праву принадлежит она Пушкину, нашедшему ей надлежащее место.
Своеобразный урок.
P.S. Д. Благой в работе «Лермонтов и Пушкин», приводя строки из «Демона», взятые у Пушкина «И на челе его высоком…», пишет: Это можно было бы рассматривать как элементарное заимствование, если угодно, почти «плагиат», если бы эти строки не входили бы так органично в контекст лермонтовской поэмы. Больше того, у Лермонтова, в применении к демону, эти патетические строки звучат даже уместнее, чем у Пушкина».
P.P.S. Читал подборку Николая Шатрова в «Строфах века» и там наткнулся на его строчку 1967 года «Потому что я — не человек». Как было не вспомнить «Я давно уже не человек» Володи Соколова? Скорей всего — совпадение (контекст совершенно другой). Вдруг вспомнил, что и у Георгия Иванова есть похожая строка, и тоже о двадцатом веке:
Последний бой, двадцатый век…
И вспоминаю, холодея,
Что я уже не человек…
Все-таки забавно: в знаменитом четверостишии В. Соколова первая строчка — моя, четвертая — почти Н. Шатрова или Г. Иванова, а в целом — Соколов, ничего не попишешь. За ним и останется, но только первое четверостишие, ибо последующие пять строк дописаны как бы с перепугу: я, дескать, «ангел, наверно». В то время, как у Шатрова и Иванова жестко: «не человек», и точка.
С русского на русский
Однажды я разыграл знакомого поэта-переводчика В.Г. (сидели мы рядом на одном длинном, скучном заседании). Я сказал ему, что перевожу стихотворение с румынского и одна строфа никак не получается: дескать, не поможешь ли? В. охотно откликается: давай! А я ему подсунул специально подготовленный «подстрочник» (прозаический пересказ) четверостишия Пастернака, указав, конечно, размер и порядок рифм. Бедный В. не узнал автора и честно перевел. Вот, что у него получилось:
В жизнь с ее суетою нелепой
Ворвалась, налетела зима;
Клочья туч с потускневшего неба
Низко свесились, как бахрома.
Я благодарно кивнул и в ответ протянул листок со стихами Пастернака, опять же не называя автора: вот, мол, вариант. И на этот раз В. не понял в чем дело. Он вскинул брови и пробормотал: — Интересно! Только несколько прозаично… Тогда я назвал автора. В. вздрогнул, отвернулся и полгода со мной не разговаривал…
Надо сказать, что В. «перевел» вполне добросовестно. Но вот оригинал:
В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.
Небо и земля! Хотя с точки зрения «информации» оба текста содержат примерно тот же смысл, но прислушайтесь — серебряный звук и деревянный стук! И это дело совсем нешуточное. Это наглядная иллюстрация на тему, что такое перевод поэзии с языка на язык. Возможность и невозможность. Адекватный перевод — скорей гениальная случайность, чем профессиональная закономерность. Но тогда это уже и не перевод, а нечто большее. Например, «На севере диком…» для нашей поэзии — это Лермонтов, несмотря на то, что «из Гейне». Это же стихотворение переводили и Тютчев и Фет — какие поэты! — а получились точней, но не лучше. Они старались «в пользу» Гейне, а Лермонтов взял и сделал стихотворение своим. Недаром сказано кем-то: у других беру свое!
«Ужал» Пушкина…
Сергей Михайлович Бонди, известный пушкинист, поведал мне о забавном споре с поэтом-переводчиком Георгием Аркадьевичем Шенгели. Последний утверждал, что, переводя Байрона, надо обязательно укладываться в его размер. Бонди возражал: это насилие над русским языком, ибо в нем куда меньше коротких слов, чем в английском. Шенгели стоял на своем: в русском языке сколько угодно коротких слов! Тогда Бонди сказал:
— Посчитай какова доля таких слов в «Евгении Онегине»! При желании Пушкин мог бы писать поплотней!
— А ты попробуй ужми его текст!
— И ужму!
И Шенгели взялся за работу. Он решил доказать, что из каждых восьми строк пушкинского текста можно без ущерба для смысла сделать четыре. Вот что у него получилось (я запомнил начало):
Мой дядя честен был, но хвор.
Стал уважаем он с тех пор.
Другим — наука, но тоска –
Бдить у постели старика!
Надеюсь, ясно. Смысл действительно тот же, что и в первых восьми строках «Евгения Онегина», — как говорится, «все зубы на месте», но где легкое дыхание, естественность, очарование? Лишний раз убеждаемся в том, что и для оригинальных и для переводных стихотворений смысл как «сумма информации» — не главное. Как и для музыки, впрочем…
О предсмертном письме Маяковского
В музее Маяковского увидел под стеклом фотокопию его предсмертного письма «Всем». С удивлением обнаружил, что оно начинается со второй внутренней страницы (лист согнут пополам, показаны вторая и третья внутренние и четвертая на обороте, внешняя). Выше названия «Всем!» ясно видна цифра «2». На известной фотокопии в «Литнаследстве» верхний край обрезан, нумерации видно. В чем дело? Неужели на первой странице было что-то обращенное не ко «Всем»?
Я спросил директриссу, она сказала, что точно не знает, где хранится оригинал. То ли в Литмузее, то ли в архиве КГБ. Обещала поинтересоваться, да на том и дело стало.
Вспомнил об этом, читая сочинение Г. Климова «Крылья холопа» («Кодры» №7,1992). Там о Маяковском:
«В предсмертной записке он перефразировал слова своего великого предшественника — «И дернул же меня черт родиться в СССР с душой и талантом…»
Откуда взято? В опубликованном тексте Маяковского ничего подобного нет!
Далее Климов приводит еще одно выражение поэта без каких-либо ссылок: «захлебнулся коммунистической блевотиной».
Климов — недостоверный источник, но все-таки этот перебежчик был связан с нашими «органами». А письмо Маяковского прежде всего попало туда…
Короче говоря, надо увидеть неизвестную нам первую страницу.
Мандельштам. Столь долгое отсутствие
Я в институте считался знатоком поэзии, но не имел никакого представления о Мандельштаме. Дело было в начале пятидесятых годов. Как это могло произойти? Институт был ведь не простой, а Литературный, битком набитый поэтами разных поколений, тот самый, расположенный на Тверском бульваре, в доме Герцена, во флигеле которого некоторое время жил Осип Эмильевич, о чем теперь свидетельствует мемориальная доска.
Вы думаете, сведущие боялись произносить его имя? Может, и побаивались, но главное было куда грустней и постыдней: Мандельштам к тому времени был давно и прочно забытым поэтом! Знали же мы Гумилева, я шпарил наизусть десятки его стихотворений, Федя Сухов был обладателем двух невесть как сохранившихся сборников Бориса Корнилова — я их, естественно, читал и перечитывал. Меньше, но все— таки знал Павла Васильева. И Гумилев, и Корнилов, и Васильев были созвучны, так сказать, основному течению советской поэзии: Тихонов, Смеляков, Гудзенко так или иначе учились у них, а вот Мандельштам совершенно выпадал из тогдашних поэтических параметров, определяемых двумя крупнейшими предшественниками-антиподами — Маяковским и Есениным, у которых, кстати, ни в стихах, ни в полемических статьях, ни в письмах нет ни единого упоминания о Мандельштаме — посмотрите указатели имен в конце собрания их сочинений. С кем только не боролись Маяковский и Есенин! С Молчановым, Митрейкиным, Кудрейко, с Демьяном Бедным и друг с другом, а вот Мандельштама словно бы и не было вовсе. Хотя каждый из них был отлично осведомлен о его поэзии и знаком с ним самим. Я спрашивал у прекрасных, ныне покойных женщин, любивших великих трагических поэтов — Веронику Витольдовну Полонскую и Надежду Давыдовну Вольпин, обе подтвердили, что и Владимир Владимирович, и Сергей Александрович частенько цитировали стихи Осипа Эмильевича. Но он был «вне игры», вне времени, как бы в другом измерении. Эстет, книжник, талантливый отщепенец…
Справедливости ради напомню, что когда Мандельштам в дон-кихотской отчаянной выходке больно кольнул самого Сталина и был раздавлен колесами времени, ни Есенина, ни Маяковского в живых уже не было, оба наложили на себя руки. Короче говоря, в середине века, в Литературном институте им. А.М. Горького Мандельштам отсутствовал. На собраниях и семинарах поругивали Ахматову и Пастернака, в общежитии их со смаком декламировали, а бедный Мандельштам изредка удостаивался снисходительного упоминания лишь на семинаре А. Коваленкова. Он, когда хотел сослаться на нечто курьезное, далекое от здоровой советской поэзии и справедливо забытое, произносил «Мандельштам и Шершеневич» — имена столь же экзотические и ставшие притчей во языцех в поэзии, как Мах и Авенариус в философии. Почему-то Коваленков никогда не произносил имени Мандельштама отдельно — всегда в паре с литератором, ничего общего с ним не имеющим ни по художественной сути, ни по уровню таланта. Впервые и всерьез я услышал о Мандельштаме года через два после окончания института от Арсения Александровича Тарковского. Это был конец 1956 года, время многих потрясающих открытий для моего поколения. Но открытие Мандельштама было шокирующим. Для меня он оказался совершенно невероятным поэтом, небожителем. Он обвораживал, ворожил, священнодействовал в какой-то неведомой мне области художественного мышления.
Неведомой и недоступной. Попробую объяснить. Мне было лет шестнадцать, когда я увлекся стихами, погрузился в стихию (и гармонию) русской поэзии. Я стал читать поэтов одного за другим и — да простится мне тогдашняя моя наивность и нахальство — тут же пробовал писать «как они», чтобы убедиться,— могу не хуже. Я перепробовал все стихотворные формы и без труда вкладывал свое содержание то в пушкинский ямб, то в брюсовский сонет, то в блоковский дольник, то в «лесенку» Маяковского. Дескать, когда потребует к священной жертве Аполлон, я буду готов, во всеоружии. Время шло. Я сочинил несколько сотен стихотворений, стал печататься и в 1955 году выпустил свой первый сборник…Дело, как говорится, ладилось, я, наверное, склонен был самообольщаться, когда меня буквально одернул Мандельштам. Он с «секретом», к нему не подступишься ни с какой стороны. Стихи не сделаны, а сотворены, они нерукотворны. Что ж меня водил за нос Маяковский со своей знаменитой статьей «Как делать стихи»? Установка, мол, и мастерство — и никаких чудес! И действительно опыт русской поэзии не составлял для меня большой загадки,— я наметанным глазом определял, что и как сделано и при желании мог воспроизвести. Так сказать, профессиональная школа. И вдруг — шаманство, волхвование и совершеннейшая тайна:
Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.
Боже мой, отглагольные «никакие» рифмы, ямб как ямб, но что за фокус! Инопланетянин. Научиться этому нет никакой возможности. И сразу десятки любимых и почитаемых мною поэтов перестали казаться мне таковыми. Прекрасные, гениальные стихотворцы, да, но этот — Поэт! Я горько сожалею, что так поздно узнал Мандельштама. Он бы вовремя уберег от рифмованных высказываний, от стихотворной повествовательности, от ложных установок и малокультурных воздействий. Годы приносят новые открытия, но то острое и смущающее впечатление неразгаданности Мандельштама осталось навсегда. Он в первом ряду русских поэтов. Среди величайших он — несравненный.
P.S. Прибавлю к сказанному еще несколько почти анекдотических, но отнюдь не случайных черточек, связанных с возвращением имени Мандельштама и с тем, как он был к тому времени забыт. Как-то в начале шестидесятых годов, когда впервые стали появляться редкие подборки стихов Мандельштама, но о нем уже громко заговорили, его часто упоминали, я оказался за обеденным столом в ЦДЛ напротив Семена Кирсанова. Не помню, кто еще был со мною, но речь зашла о поэзии и о месте в ней Мандельштама. Кирсанов слушал-слушал и вдруг, отодвинув тарелку, вмешался в разговор:
— Не понимаю. Что за мода пошла на Мандельштама? Я-то его хорошо помню. Он жил рядом, он у меня трешки занимал!
Сказано это было так, что было видно: он искренне удивлен — он же Кирсанов, один из первых поэтов страны, причем тут несчастный тот неудачник?
Медленно, мучительно медленно шел к читателю сборник Мандельштама после столь долгого отсутствия. Скудное «Избранное» вышло в «Большой библиотеке поэта» к концу 1973 года. Пронеслась по телефонам весть, что с утра книга будет продаваться в Лавке писателей. За час до открытия уже выстроилась длинная очередь вдоль Кузнецкого моста. Было морозно и солнечно. Я стоял рядом с Арсением Александровичем Тарковским, на глазах которого разворачивалась трагическая история нашей поэзии. Он волновался, словно опасаясь, что в последний момент опять что-то случится, и посмертная встреча с Осипом Эмильевичем не произойдет. Внезапно к нам подлетела какая-то расфуфыренная дамочка в мехах:
— Что дают?
— Мандельштама!
Дамочка вспыхнула:
— Я вас по-русски спрашиваю, а вы что отвечаете? — и возмущенно засеменила прочь.