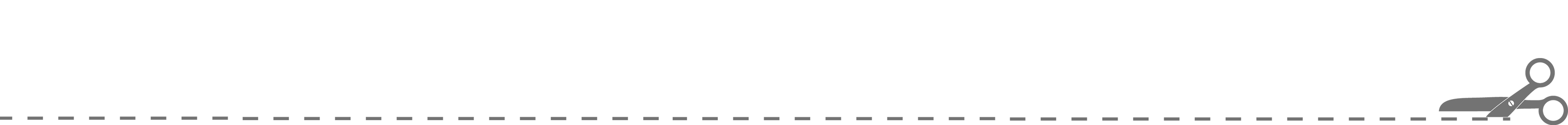924 Views
Алексей Караковский — московский музыкант, писатель, поэт. Основной автор песен и вокалист группы «Происшествие», созданной в 1994 году; также известен как создатель и соавтор музыкальных проектов «Сад Мандельштама», «Ложные показания» и других. Автор десятка книг, создатель более двадцати музыкальных альбомов. Вёл авторскую радиопередачу «Всё своё», известен как автор культурологических статей. С 2022 года публикуется, по большей части, за пределами России.
«Рок-н-ролльный возраст» — это воспоминания Алексея Караковского о его творческой деятельности и московском андеграунде. Первая книга охватывает события в жизни автора с рождения по осень 2000 года. Вторая посвящена, в основном, литературной жизни и охватывает период с 2000 по 2010 год. Третья посвящена музыкальным проектам с 2010 года по настоящий момент. Ранние редакции «Рок-н-ролльного возраста» издавались в 2007 и 2010 годах и теперь являются библиографическими редкостями.
Данная публикация включает в себя первую часть «Рок-н-ролльного возраста»; остальные части находятся в процессе редактуры.
Наше время
Сейчас окраины Москвы кажутся благоустроенными и совсем не опасными. Во дворах — детские площадки, спортивные площадки. На фасадах домов — аккуратные вывески. В магазинах — качественная и разнообразная еда, а продавцы — вежливы и доброжелательны. Но стоит закрыть глаза, и я легко восстанавливаю в памяти времена, когда в подъездах многоэтажек жителей встречали разбитые стекла и сожжённые почтовые ящики, на лестницах валялись экскременты и разбитые бутылки, а мусоропроводы были забиты до шестнадцатого этажа. Улицы были усыпаны бетоном, разбитым асфальтом, в грязи у сломанных лавочек бесились пьяные и глубоко несчастные люди.
Мне кажется, скоро не останется никого, кто помнил бы то же самое, что и я. А через десяток лет будет невозможно доказать, что всё это вообще было. Уже сейчас про СССР можно услышать только, что у нас была непобедимая армия и уникальное мороженое, но никто не вспоминает, как от этой армии косили, чтобы не попасть в Афганистан, и как отстаивали очереди за мороженым, но только не советским, а импортным — сначала «Pinguin», потом «Baskin Robbins». Но самое главное, никто не хочет вспоминать, какое запустение и разруха были повсюду — даже в Москве.
Культура позднего совка даже для подростка казалась примитивной, наивной — словно это был специально насаждаемый сверху религиозный культ инфантилизма с человеческими жертвоприношениями. Коммунизм был теряющейся в дымке абстракцией; понятно в нём было только то, что рай — материален. И для того, чтобы вступить в корпорацию распределения этих райских благ какой-нибудь республике Бенин, веками живущей своими традициями, надо было одномоментно уверовать в чуждую систему ценностей и символов. Именно на таких вот бенинцев и были похожи тогдашние советские аборигены. На бенинцев похожи и современные адепты советской ностальгии — от непонятных людей, рассказывающих сказки по телевизору, до случайных прохожих в майках с советской символикой и надписями a la «Верните мне мой 1937».
На депрессивной почве росли свои цветы — московские неформалы. Никакого будущего у нас не было, и большинство это понимали, стремясь жить настоящим, пока есть возможность. Кому-то это принесло раннюю смерть от передозировки или несчастного случая, кому-то адреналин, секс и авантюрные приключения, ну а тем, кто оказался живуч и с неплохой памятью — в том числе, и мне — неформальная жизнь дала возможность получить множество сюжетов и источников вдохновения. В эпоху перемен умнеешь быстро: уже к августовскому путчу я был сложившимся подростком с некоторыми зачатками собственного мировоззрения, хоть мне и было неполных тринадцать лет.
Чтобы найти опору среди обломков разрушенного информационного барьера, людям срочно требовалось взрослеть. Вся страна буквально оглохла от скрипа извилин, так тяжело было это сделать. Многие по привычке надеялись, что за них снова удачно подумают национальные лидеры. В какой-то момент казалось, что Борис Ельцин сделает правильный выбор и станет русским Де Голлем, спасшим свою Родину от хаоса, но первый же русский президент демонстративно поддался искушению, присвоив себе абсолютную власть. Эта неразборчивость вызвала катастрофические последствия. Демократия, либерализм, республика, гуманизм — всё было дискредитировано и превращено в ширму криминала самого низкого пошиба. Население догадалось, что взрослеть не обязательно, и с облегчением возобновило деградацию. В страну вернулась новая эпоха застоя, и коммунизм, по старой большевистской традиции, снова был отложен в светлое будущее.
Прошли годы. Немного повысился уровень жизни. На подъезды повесили железные двери и поставили кодовые замки; позже им на смену пришли домофоны. Потом в городе сменились люди — удивительно быстро, не дольше, чем за десятилетие. Не знаю, что случилось с коренными москвичами. Должно быть, алкоголики вымерли от пьянства, а агрессивные подростки подались в бандиты и перебили друг друга. Те, кто не принял новую власть, либо бросились за рубеж, либо затаились здесь, как я. На смену «советскому народу» пришли европейские хипстеры и азиатские чернорабочие. Вопрос «Из какого ты района?» стал уже не важен; теперь чаще интересуются, из которого ты города. Компьютерные игры снизили интенсивность пьянства и уличных драк. Пожалуй, не поменялось только одно — низкопробная популярная музыка, бьющая по ушам из каждой дыры.
Эта книга получила название «Рок-н-ролльный возраст», потому что моё состояние души за эти годы не изменилось. Как-то я прочитал у Грэйла Маркуса, что рок-н-ролл для музыканта — это не просто наркотик, это ещё и эликсир молодости. Мне не так много лет, чтобы я мог судить о справедливости этих слов, но самое главное, что каждый день создавая художественную реальность, мы сами живём по законам художественной реальности. Именно поэтому я писал воспоминания тем же языком, каким я разговариваю в жизни или пишу в блоге — со всеми жаргонизмами, научными терминами и прочей мешаниной, из которой состоит моя повседневная неписательская речь. Стоило ли писать воспоминания сейчас, когда ещё ничего не закончилось? Ну, раз вы держите эту книгу в руках, значит, понимаете, как я на него ответил.
Я люблю жанр «rock-n-roll story» за обстоятельства времени и места. Мне интересно читать об истории культуры, а не о том, сколько женщин было у Джона Леннона или Джима Моррисона. Я уверен, что московский андеграунд 1990 — 2020-х годов для читателя может оказаться ничуть не менее драйвовым, чем «свингующий Лондон» 60-х или панк-революция 1977 года. И хотя в начале девяностых годов мне было трудно преуспеть, позже я реализовал свои замыслы. Уже почти тридцать лет я путешествую по стране, сочиняю и пою песни, пишу стихи — и совершенно не жалею о том, что я не вполне нормальный человек. Музыкант никому не обязан быть нормальным!
Мне повезло: я попал в рок-н-ролльную среду в годы, когда ни у кого не было готовых ответов, что правильно, а что нет. Именно об этом когда-то написал мой приятель Митя Лихачёв, выложив в Интернете свои старые аудиозаписи:
«Не уверен, насколько эти песни представляют самостоятельную эстетическую ценность для постороннего человека, но для меня они важны как память об эпохе, ушедшей от нас уже безвозвратно. Эпохи открывания большого мира, эпохи, полной энергии, надежд, перспектив и иллюзий, которые сейчас мы уже разменяли на те или иные достижения нашей сегодняшней реальности — крупные ли, мелкие ли, но главное — без права обмена и возврата; эпохи, когда деревья были большие и зеленые, лучшими местами для проведения отпуска были Филяндино и Селигер, в идеальном случае — съемная койка в Крыму; эпохи, когда можно было наслаждаться полной безответственностью, но мы еще не понимали, что это наслаждение; эпохи, когда первые жизненные разочарования казались досадным недоразумением, которое должно пройти при первом же его озвучивании».
Да, возможно, «Рок-н-ролльный возраст» — это всего лишь забавные истории о рок-н-ролле, путешествиях, отношениях с людьми и миром. Но для меня и моих друзей — ещё и хроника искреннего, честного времени — «нашего времени», как пел Митя.
И это — наше время, кто не успел, тот опоздал.
И это — наше время, и мы не должны быть одни где-то в тени.
И это — наше время, было бы небо, найдётся звезда,
Длинные-длинные дни.
(Дмитрий Лихачёв, «Наше время», 1995).
Интернационал моей фамилии
Мой род начался с запутанной истории рождения моего деда, Владимира Абрамовича Караковского. Его матери, Анне, запретили рожать врачи, но она сознательно пошла на риск, договорившись с подругой-учительницей, что при худшем развитии событий она с мужем усыновит ребёнка – благо у Абрама Залмановича и Розы Петровны Караковских собственных детей не было. Дед родился на свет 14 февраля 1932 года в Свердловске. Анна умерла при родах. Настоящий отец моего деда, Александр Волгин, отказался от ребёнка прямо в роддоме, и мальчик, наречённый Владимиром, был усыновлён Караковскими. Со временем Волгин сделал карьеру партработника в пермском обкоме. Его дочь от второго брака Галина Розенберг уехала жить в Израиль, и в 2004 году внучка Волгина Мириам прислала мне электронной почтой несколько его и своих фотографий. Брюнетка в военной форме и с автоматом в руках мне понравилась больше невнятного лысого субъекта в военном френче и в круглых очках. Впрочем, на молодых фотографиях Волгин выглядел красивым и дерзким.

Приёмным родителям ребёнка повезло намного меньше, чем Волгину.
Абрам Залманович родился в прибалтийском городе Себеж в октябре 1893 года в семье мелких торговцев. Он отучился три года на медицинском факультете университета города Тарту, семь лет проработал фармацевтом, во время Первой мировой был фельдшером в военном госпитале. В 1918 году вступил в ВКП(б), но сначала, как и многие евреи, состоял в ячейке Бунда. К педагогике его привела кампания по борьбе с неграмотностью, в которой он участвовал, работая по партийной линии в Сызрани. Высшее образование Абрам Залманович получил в Академии коммунистического воспитания имени Крупской в Москве и далее в «отделе» того же вуза в Свердловске — получив специальность «инспектора и организатора народного образования». Был автором брошюр и учебников по педагогике. Дружил и сотрудничал с Яковом Перелем, который в те годы занимался социализацией беспризорников.
Потом начинающего педагога направили в Челябинск в подчинение первого секретаря обкома Кузьмы Рындина. Там Абрама Залмановича назначили заведующим ОблОНО, а потом директором школы-новостройки № 37, находящейся недалеко от трущоб «Порт-Артура», как тогда называли железнодорожный посёлок. Время было суровым. Чего стоит строка из педагогического плана, принятого партийной ячейкой: «…1.01.1940 — районная ёлка для отличников; для старшеклассников организовать и провести военизированный поход в противогазах по местам революционной славы…».
После ареста Рындина стало ясно, что настала очередь «его людей». Караковского исключили из партии «за связь с врагом народа Перелем, за педологические извращения и бюрократизм, проявленный в руководстве школой, за контрреволюционную вылазку в беседе с беспартийными, выразившуюся в признании Зиновьева и Каменева немножко революционерами». Перель же, как писал Солженицын, обвинялся в организации детских ёлок, на которых троцкисты бы поджигали школы. В декабре последовал арест. Учительница В.А. Муратова (Узлова) вспоминала: «…в один из вечеров, когда многие учителя после работы еще не разошлись по домам, а сидели и работали в учительской (заполняли журналы, проверяли тетради и прочее) вошёл взволнованный директор школы Караковский. Он пожелал нам честно трудится, любить своё дело и, пожав каждому руку, простился с нами и ушёл. Каждый из нас почувствовал, что происходит. Директора школы все уважали, ведь каждому он чем-то помог в работе. Утром он на работу уже не пришёл».
Абрама Залмановича долго держали под арестом, заставляя дать признательные показания, но он не соглашался. Тогда чекисты арестовали его жену. Обвиняемый продолжал упорствовать. На «воронке» приехали за пятилетним Володей, отняв его у испуганной бабушки. Несмотря на то, что эшелонирование детей проходило ночью и не афишировалось, на перрон высыпали местные женщины, бросавшие детям в теплушки хлеб и во весь голос ругавшие НКВД… И тогда Абрам сдался. Дело по группе вредителей было открыто 5 марта. 19 июля 1938 г. был вынесен приговор, подписанный Кагановичем и местными чекистами: «за активное участие в антисоветской организации правых» Караковский был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Признательные показания спасли жизнь его семье… Реабилитировали его в 1957 году «за отсутствием состава преступления» — уже после смерти жены. Солженицын упоминал о расстреле Переля, но, по свидетельству Г. Д. Кусургашева, Яков Акимович был отправлен на Дальстрой и даже дослужился до бригадира на прииске Штурмовой.
Только в 10-х годах была опубликована биография одного из главных палачей этой бойни — начальника УНКВД Челябинской области 32-летнего майора Павла Васильевича Чистова, при непосредственном участии которого «тройка» приговорила к расстрелу почти 6000 человек. Чистов избирался депутатом Верховного Совета, был награждён орденом «Знак почёта», медалью «XX лет РККА» и значком «Почётный сотрудник ВЧК-ОГПУ», работал в ГУЛАГе. В начале войны Чистова, который уже дослужился до генерала, направили организовывать строительство оборонительных сооружений Брянск — Чернигов (разумеется, руками заключённых). В сентябре 1941 года под Конотопом Чистов попал в руки немецкой диверсионной группы и на допросе выложил всё, что знал о советской обороне, о чём с удовольствием сообщила оккупационная пропаганда. Он провёл всю войну в лагерях на хозяйственных должностях, продолжая сотрудничать с фашистами. В мае 1945 года Чистов был освобожден американцами из Маутхаузена и отправлен в СССР, во время следствия пытался повеситься в Бутырской тюрьме. Как ни странно, приговор предателю Родины был относительно мягок — 15 лет лагерей. Семь из них он провёл на Колыме — сначала в лагере, потом ещё год в ссылке после освобождения по УДО в 1955 году. Вернувшись в Москву в 1957 году, Чистов работал бухгалтером и умер в 1982 году. Из сорока двух награждённых в июле 1937-го орденом Ленина сотрудников госбезопасности не был расстрелян лишь он; ещё один орденоносец успел застрелиться до ареста.

Через полгода после ареста Розу Петровну выпустили, позволив работать учителем в челябинской школе №18. Она нашла сына в Кунгурском доме для детей врагов народа (Пермская область). Стресс удалось полностью снять, но в результате дед почти ничего не помнил о своём детстве… Невозможно было стереть из реальности другое — печать сына «врага народа», обречённого на социальную изоляцию и голод (в Свердловске детей «врагов народа» подкармливали даже немецкие военнопленные). Лучшими друзьями Володи стали учителя из блокадного Ленинграда, тоже прошедшие через ад и не питавшие никаких иллюзий.
Получив паспорт, дед взял фамилию и национальность приёмных родителей. Вслед за Розой Петровной он решил избрать профессию педагога, после чего закончил филологический факультет Челябинского государственного педагогического института. Там Владимир Абрамович вовсю проявлял организаторские способности и личное обаяние — в частности, был руководителем студенческого хора при весьма скромных, скажем честно, вокальных данных. Вскоре мой дед женился на Инне Алексеевне Шахиной, дочери директора челябинского радиозавода Алексея Васильевича Шахина, незадолго до этого переехавшего из Горького. Чтобы поступить на радиотехническую специальность, Инне не хватило баллов, и поэтому она училась на математическом факультете. Инна была вздорной красавицей: уже зная, что уедет в Челябинск, назначила парню свидание, и не пришла.
Алексей Шахин тоже был далеко не ординарной личностью: он начинал когда-то в Нижнем Новгороде моряком речфлота, но потом закончил радиотехникум, прошёл стажировку в Америке, был сотрудником лаборатории Бонч-Бруевича. Вскоре после войны Алексея Васильевича направили работать директором на только что построенном радиозаводе «Полёт» в Челябинске. Ему удалось в составе советских делегаций побывать во множестве зарубежных стран (судя по фотоальбомам, как минимум в США, Франции и Бельгии), а в середине шестидесятых он два года прожил в Индии, строя какой-то завод (в то же время, когда Джордж Харрисон учился играть на ситаре под руководством Рави Шанкара, но в другом штате). Шахин прожил долгую жизнь, воспитал сына, дочь, двух внучек, внука (т.е. моего отца) и оказал немалое влияние на меня и сестру. Умер он в 1997 году, дожив до 86 лет. Его жена Елена Алексеевна (младшая из пяти сестёр мещанского рода Барановых) пережила деда.
Сначала Владимир Абрамович работал учителем литературы и русского языка в школе № 48; потом завучем в школе №109. В 1962 году Владимира Абрамовича назначили на должность директора школы № 1 им. Ф. Энгельса. Эта элитная английская спецшкола была основана в 1861 году как женская гимназия и открыта заново в новом здании в 1935 году. Сначала, насколько можно понять по его рассказам и первой книге «Грани воспитания» (позже у Владимира Абрамовича вышло несколько десятков книг), деятельность Караковского была направлена на создание нормальных человеческих взаимоотношений в коллективе школы. Став директором, дед стал реализовывать в школе собственную методику коллективного творческого воспитания, которая базировалась на проведении «коллективных творческих дел», многие из которых оставили след в истории города. Так, 19 сентября 1970 года во дворе около школы состоялось открытие памятника «Алёша», посвящённого молодёжи, погибшей на войне. Со временем монумент стал местом встречи для ветеранов и родственников погибших солдат — ведь от могил близких их отделяли сотни и тысячи километров.
Вскоре молодого директора школы заметили передовые педагоги СССР, разрабатывавшие теоретическую модель «воспитательной системы школы», и в 1977 году он стал директором московской школы №825. Первое время, пока не дали квартиру, мои дед и отец жили в соседней школе — впоследствии кузьминском Доме пионеров, сыгравшем запоминающуюся роль и в моей жизни. К концу года в столицу перебралась вся семья.
Мой отец унаследовал от деда его кипучую энергию, но применял её поначалу исключительно в уличных драках, бывших нормальным времяпрепровождением в индустриальных городах. «Володя, всё кончится милицией», — предупреждала его мать, не подозревая, насколько сбудутся её предсказания. Закалённый в боях челябинский хулиган успешно сдал вступительные экзамены на исторический факультет ЧГПИ, где захипповал — разумеется, не в американском, а в советском смысле этого слова. Выражалось это в том, что отец ездил в Чехословакию и Прибалтику, слушал западный рок, а диплом защищал по политэкономии США.
Вскоре в общежитии ЧГПИ он встретил мою мать — младшую дочь в большой немецкой семье Балько, сосланной в годы войны из Крыма в Казахстан, а к тому времени жившую в деревне Калачёво в тридцати километрах от Челябинска. В детстве моя мама ходила в музыкальную школу, находящуюся в соседнем посёлке с красивым названием Роза, и занималась на хорошем немецком пианино «Zimmerman». У неё было два брата и три сестры, причём всех сестёр специально назвали именами, начинающимися с буквы «Л»: Люда, Лена, Лида и Лариса.




В студенческие годы мама часто ходила по институту в платье с маленьким британским флажком на рукаве, за что ей делали выговоры, и это было тоже неформально.
Глава семьи Христофор Христофорович Балько сделал большую карьеру. Для начала ему удалось выжить на Бакальских каменоломнях, куда он попал в рядах «трудармии» (этот термин в годы войны означал советских каторжников, осуждённых за немецкую национальность). После демобилизации он закончил Тимирязевскую академию и был направлен на строительство крупнейшей в регионе птицефабрики, где занял пост главного инженера, а позднее, в 90-х годах, когда от предприятия остались одни руины, был председателем совхоза. Всю свою жизнь дед скрывал свою национальность и при посторонних заговорил по-немецки только один раз – за несколько часов до смерти.

После переезда в Москву родители закончили московские вузы (отец — МГПИ имени Ленина, мать — МОПИ имени Крупской) и стали работать учителями. Однако после рождения второго ребёнка отец пошёл работать в милицию, где во времена министра Щёлокова неплохо платили. Начав простым участковым, в конце восьмидесятых он стал оперативником, потом замполитом 44-го отделения милиции, а в 1993 году ему поручили только что созданное ОВД «Жулебино». В конечном счёте, отец возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-восточного округа, откуда ушёл на пенсию в звании полковника в середине нулевых годов. Мать же проработала учителем истории до 2005 года. В 2008 году мой отец затеял бизнес в Словакии, и вскоре родители уехали туда насовсем.




Детство в Вешняках
Моё детство контрастно делится на две части — счастливую и несчастливую. Первый период, когда я жил сначала в Кузьминках, а потом в Вешняках, длился с 1978 по 1988 год, был абсолютно безмятежен и прошел как-то быстро. Второй период, связанный с переездом на Выхино, тянулся до середины 1993 года и казался бесконечным.
Я родился во вторник 19 сентября 1978 года, по странному совпадению ровно через восемь лет после открытия челябинского памятника — в роддоме больницы №68 на улице Шкулёва. Получил ли я имя благодаря «Алёше», я не знаю; прадед, Алексей Васильевич Шахин, любил говорить, что меня назвали в его честь, и уделял очень много времени общению со мной, надеясь, что я когда-нибудь стану радиотехником, как и он (у меня до сих пор сохранились его письма). Будучи первым ребёнком в семье, я получил максимум родительской любви и заботы. Жили мы небогато, но и не голодали. После моего рождения бабушка вышла на пенсию, и я всё детство провёл в прогулках с ней по Кузьминскому парку, чувствуя себя настолько самодостаточным, что до переезда в другой район у меня даже не было друзей-сверстников. Отец часто возил меня гулять в центр города, ездил со мной на две недели в Ленинград, а дед брал с собой в командировки в Кострому и Йошкар-Олу. Лето мы проводили, как правило, у маминых родителей в деревне под Челябинском. Благодаря этим первым поездкам я очень полюбил путешествовать, что сыграло большую роль в моей взрослой жизни.
Иногда мы всей семьёй ездили в гости к ученику деда ещё челябинских времён — заместителю главного редактора газеты «Аргументы и факты» Александру Мещерскому, этакому советскому денди, прожившему много лет в Швейцарии. Дочери Мещерского, Настя и Василиса, были старше меня, и общаться нам было немного затруднительно. Зато у Мещерского была собака Фанни, устраивавшая концерты под аккомпанемент скрипки, а хозяйка, Люся Мещерская, прилично играла на гитаре. Ещё у Мещерских запомнились фотообои во всю стену, раздвижные двери, отличная фонотека и редкий во времена СССР CD-проигрыватель, а также совместная поездка на машине на Воробьёвы (тогда Ленинские) горы, чтобы посмотреть салют в день Победы. Кроме этого, из детства запомнились первомайские демонстрации, смерть Брежнева, Черненко, Устинова, Андропова, а московская Олимпиада 1980 года и хоккейные матчи челябинского «Трактора» стали первыми моими детскими воспоминаниями.
Я думаю, что многим московским детям восьмидесятых годов доводилось хоть раз побывать на Новогодней Ёлке в Кремлёвском дворце съездов. Ещё бы! Многие взрослые мечтали об этом: напрягали связи, искали знакомых, входили в доверие. Мне, внуку директора школы, было, конечно, проще: заветные приглашения доставались нам практически без усилий. Так что в середине восьмидесятых я два или три года подряд ходил на эту ёлку в компании старшей кузины Даши, отвечавшей за мою безопасность.
Память сохранила немногое. Пожалуй, единственное, в чём я уверен, это то, что сценарии всех Ёлок были практически одинаковыми, с прославлением Великой Родины в финале. В самой этой идее не было ничего плохого, если бы она не навязывалась бы с такой силой и почти полным отсутствием фантазии. Но ещё странным образом запомнились тактильные ощущения. Оплот советской культпропаганды, выстроенный с размахом, увешанный всеми какими только возможно символами роскоши и благополучия, и известный на всю страну, внутри оказался каким-то изношенным, как московский метрополитен. Пальцы сохранили ощущение затёртой лакированной деревяшки, напоминающей устаревшие детали вагонов, ездивших в те годы по Кольцевой линии.
Через двадцать лет я снова попал на главную Ёлку страны — уже со своими детьми. С советского времени в Дворце съездов практически ничего не поменялось, и даже сюжет сказки остался таким же, как и был — с явно выраженной внешней агрессией, героическим уничтожением противника доблестным Солдатом (он был одет в архаичную военную форму девятнадцатого века, как в сказке «Двенадцать месяцев») и прославлением Родины в финале. Правда, многие дети до этого времени не досидели и потянулись в фойе за конфетами, но теперь это не казалось серьёзным проступком. Точно так же в советское время на ёлки в учреждениях частенько ходили не дети, а взрослые — за подарками… Сакральное воспитательное действо превратилось в пафосное, консервативное, но всё-таки развлекательное шоу.
В январе 1982 года у меня родилась сестра Мария, которую я сам и назвал: родители никак не могли договориться друг с другом по поводу имени, а моё предложение неожиданно поддержала бабушка. К этому времени отец скопил денег и купил хороший магнитофон «Hitachi», но поскольку имевшиеся у нас кассеты подписаны не были, имён исполнителей я не знал и, как ни странно, продолжаю открывать их для себя до сих пор. Надо сказать, помимо вездесущей итальянской и американской попсы там был очень приличный набор музыки 60-80 годов — несколько песен «Beatles», «Procol Harum», «Archies», «Chicago», Силлы Блэк, Лайонела Ричи, Фалько и многие другие записи, подаренные отцовским учеником Димой Карпухиным. Моя мать часто играла на пианино, а в качестве колыбельных пела Булата Окуджаву и песни из советских кинофильмов. Я тоже любил постучать по клавишам и к семи годам умел играть одним пальцем что-то мелодичное, подбирая или, чаще, сочиняя музыку.
Вскоре моим родителям дали отдельную квартиру, и мы перебрались жить в хрущёвскую пятиэтажку возле платформы Вешняки, рядом с Кусковским парком — близость к лесу мои родители считали важным фактором жизненного комфорта. Дом этот был построен на недосушенном болоте, и, по-моему, пол в нём имел какой-то угол наклона по отношению к горизонтали. Во дворе росли кусты вишни, крыжовника и смородины, за которыми ухаживали бабушки-пенсионерки. Кроме того, там в изобилии росла сныть — съедобная трава, которой по преданию питался Лев Толстой. Интересные кусты и деревья росли также и у других домов, но туда нам сначала запрещали ходить, а потом это было уже не так привлекательно.
Сторона дома, противоположная входу в подъезд, не была благоустроена. По зарослям гигантских лопухов и иван-чая годами не ступала нога человека — кроме, конечно, детских ног. Зато там жили полудикие кошки, столовавшиеся у наших соседей и ловившие отнюдь не домашних мышей, в изобилии населявших подвал дома. На самодельных лавочках возле погнутого забора в виде сваренных из арматуры копий, собирались местные алкоголики. Из форточек на улицу проникали удушливые кухонные запахи и семейные скандалы. Особый колорит району добавляла Казанская железная дорога: звуки проезжающих поездов было отлично слышно круглые сутки. У эстакады находилось автобусное кольцо, откуда ездили 159, 51, 29, 46, 593, 725 маршруты и автобус под названием «В»; в пяти минутах ходьбы находилась станция метро «Рязанский проспект». За платформой электричек стояла старинная церковь, которая, как говорили, не закрывалась в течение всей Советской власти. Улица, на которой находился храм, называлась Красный Казанец. Местные жители в слове «Казанец» почему-то ставили ударение на последний слог.
Наша полуразрушенная детская площадка примыкала с одной стороны к огромной мусорной свалке и детской поликлинике, а с другой — к кирпичной котельной с высокой трубой. Это было не очень приятное место, и поэтому в возрасте четырёх-пяти лет я обычно гулял в примыкавшем к нашему дому сквере, в центре которого стояла небольшая стела в память жертв революции 1905 года. Там-то, у этой стелы я попал в первую в жизни серьёзную передрягу.
Весной в нашем сквере сажали большие красивые цветы, вокруг которых тут же закипала жизнь: ползали гусеницы, летали пчёлы и шмели. Там же, рядом с цветами, гуляли и дети — в основном, такие же маленькие, как и я. Среди них я держался вполне уверенно и даже пытался их организовать: например, летом мы очень серьёзно собирали скошенную на газонах траву и перевозили её на велосипеде из одного конца сквера в другой. Это были тихие игры, но старшие мальчишки, жившие, как говорили, в неблагополучных семьях, были побойчее и поагрессивнее. Вскоре выяснилось, что шмели их очень интересуют как объекты охоты и дальнейшего содержания в неволе — в спичечном коробке. Впервые в жизни увидев пойманного шмеля, я испытал почти физическую боль сопереживания. Я плакал, я умолял, чтобы его выпустили, я звал на помощь взрослых, пока меня не прогнали силой. И тогда, исчерпав все известные мне средства, я подставил какой-то ящик к телефону-автомату и вызвал «02», объяснив оператору дежурной части милиции, что произошло. Разумеется, милиция не приехала, а эта история быстро вышла на поверхность.
Вскоре родители стали доверять мне взрослые обязанности: начиная с пяти лет я каждый день ходил за хлебом или молоком в ближайший «Универсам». Правда, приходилось стоять в двух разных очередях, но вскоре я наловчился покупать хлеб в булочной через квартал: очередь там была всегда заметно меньше.
Отец проводил на работе круглые сутки. Пока я не пошёл в школу, и меня было не с кем оставить дома, он часто приводил меня в своё 94 отделение милиции, где я либо рисовал на бланках протоколов допроса, либо рассматривал в гараже милицейские автомобили. Если отцу требовалось куда-то отлучиться, он отводил меня к девушкам из паспортного стола, которые любили со мной возиться. Впрочем, как-то он не успел этого сделать и, второпях забросив меня в заднее отделение милицейского УАЗа к служебной овчарке, поехал на операцию к строящемуся хлебозаводу на Ферганской, где какой-то злоумышленник разобрал и спрятал угнанный мотоцикл. Когда же отца назначили участковым в новые многоэтажки на Сормовскую улицу, это было уже не так интересно, да и архитектура спального района вселяла в меня неосознаваемый ужас.
Дорогая передача
В 1985 году я пошёл в школу, где легко нашёл общий язык с одноклассниками. Учёба давалась без особых хлопот, но и сложности тоже иногда случались. Как-то раз я потерял пять копеек, на которые обычно добирался из школы домой. Расстояние это казалось мне слишком большим, и я решил дойти до школы своего деда, чтобы попросить у него денег, но не смог вспомнить, где она точно находится, и проделал огромный путь пешком совершенно напрасно. После этого стало ясно, что проще уже дойти просто до дома; полностью эта дорога заняла несколько часов. Когда я пришёл домой, выяснилось, что родители испугались гораздо больше меня. «Почему ты не догадался просто попросить у кого-нибудь эти несчастные пять копеек?», — недоумевала мама, но меня просто-напросто не учили ничего просить: и тогда, и сейчас я привык ориентироваться только на собственные силы.
Моя аудиальность стала проявляться в самом раннем возрасте. Хорошая музыка вызывала у меня не только взрыв эмоций, но и яркие зрительные образы, которые я даже пытался пластически изображать. Первой музыкальной композицией, которая на меня так подействовала, была «Blau wie das Meer» — песня немецкой певицы греческого происхождения Вики Леандрос, с которой она участвовала в Евровидении 1967 года от Люксембурга, но заняла лишь 4 место.
Истории, которые рассказывает мне музыка, и по сей день часто никак не коррелируют с историей в тексте песни. В качестве примера — моя трактовка песни The Zombies «What More Can I Do», цитируемая по личной переписке 2023 года:
«Мне так нравится, что простенькая гармония вдруг чешет куда-то хрен пойми куда, певец срывается на крик, а потом вообще бросает нафиг петь, но его выручает клавишник с клёвым соляком. Далее вторая попытка спеть куплет, но гармония опять заводит в тупик, приходится вступать соло-гитаристу. С третьего захода, наконец, удаётся удержаться в мейнстриме, но гитаристу, вокалисту и клавишнику уже надоела песня. Басист и барабанщик, не исполнявшие никаких соло, нехотя соглашаются на коду.»
Читать я тоже научился очень рано. Сначала я проглотил всю художественную литературу, которая была в доме, а потом стал читать всё, что попадалось под руку. В основном, разумеется, это была историческая литература, которую мама покупала для подготовки к урокам, и газета «Московский комсомолец», которую мы тогда выписывали. Кроме этого, я всё чаще и чаще рифмовал какие-то строчки и мастерил небольшие рукописные книги собственного сочинения.
Стихосложение я освоил в возрасте четырёх лет. Это было игрой, в которую со мной играли мама и дед, а в качестве примера были «кричалки» Винни-Пуха. Игра в поэта, однажды начавшись, уже не прекращалась, а в возрасте десяти лет я вдруг впервые написал стихотворение, претендующее на нечто большее. Называлось оно «Остров погибших кораблей», по мотивам романа Александра Беляева; вскоре я придумал к этому тексту и музыку, позднее использованную в песне «Мазохисткий сентябрь». На зимних каникулах в Йошкар-Оле я сочинил вторую песню — «Солнце встаёт» (о лыжных походах). Обе мелодии получились настолько удачно, что через тридцать лет их включила в свой репертуар певица Владислава Рукавишникова.
Конечно, я не подозревал, что музыка может нести какой-то протест. Безопасный для власти формат эстрады был не так уж и плох, и я впитывал любые песни. Правда, советское телевидение конца восьмидесятых ещё не было таким масштабным, каким стало российское ТВ спустя всего несколько лет — в большинстве городов страны можно было увидеть два-три, максимум четыре телеканала. Об отдельном музыкальном потоке типа MTV, было и подумать невозможно, однако в девяностых годах утреннее и часть дневного времени на третьем городском потоке вещания плотно занял канал 2х2, крутивший небольшое количество очень качественной западной музыки (Blur, Soft Cell, Camouflage, Сьюзен Вега и др.). Но до этого нужно было ещё дожить, а пока приходилось довольствоваться одной-единственной музыкальной программой «Утренняя почта», выходившей каждое воскресное утро. Как позднее вспоминал ведущий Юрий Николаев, зрительские заявки, по которым строилась передача, включали одни и те же имена — Аллу Пугачёву, Софию Ротару, Иосифа Кобзона, Юрия Антонова. Режиссёры старались разбавить эти сливки чем-нибудь новым, иногда выводя в телеэфир настоящие хиты. В 1985 году, когда я стал постоянным зрителем передачи, мне было семь лет. Для детей младшего школьного возраста, любивших музыку, это был едва ли не единственный источник аудиовизуальной информации.
К этому времени благодаря таким «экспортным» мероприятиям, как фестиваль в Юрмале, бит-музыка прочно встроилась в советский истеблишмент, поэтому эстетического конфликта не было — попсовая блондинка Лайма Вайкуле с фальшивым балтийским акцентом задорно свинговала в своём хите «Ещё не вечер», а, с другой стороны, бит-квартет «Секрет» с видимым наслаждением лупил рок-н-ролл в музыкальном фильме «Как стать звездой». Правда, на экран по понятным причинам почти не попадала настоящая андеграундная музыка, которую позже назовут «русским роком». Герои ТВ около-рокерского происхождения — Владимир Кузьмин, Крис Кельми или Виктор Салтыков — демонстрировали обществу свои взъерошенные причёски, но угрозу представляли не большую, чем Алла Пугачёва.
Едва ли не единственным исключением из правил стал выпуск передачи «Музыкальный ринг», в котором Борис Гребенщиков изображал из себя эдакого панк-клоуна, шокирующего домохозяек. К сожалению, в те годы эту передачу я не видел. Зато в программе «Утренняя почта» проскочила песня «Аквариума» «Сны». В кадре бородатые музыканты играли на каких-то огромных виолончелях и флейтах, картинно падая в осеннюю листву. Название группы указано не было, но песня меня настолько поразила, что я мгновенно выучил мелодию. К сожалению, этого было мало, чтобы выяснить её происхождение. Разгадка была найдена только через восемь лет, когда, поставив на «вертушку» диск «Аквариума», я внезапно услышал мотив, так поразивший меня в детстве. Трудно передать охватившее меня в тот момент счастье узнавания. Ещё в «Утренней почте» были показаны клипы рок-групп «Авиа» («Я не люблю тебя») и «Дети» («Всё, я сказал»).
Что же касается передачи «Музыкальный ринг», я думаю, это было довольно жестокое ток-шоу. Лучше всех мне запомнился выпуск, в котором прекрасный советский композитор Давид Тухманов рубился с Игорем Корнелюком, писавшим слащавые попсовые песенки. Передача казалась смотром достижений Тухманова, раскрывавшимся то в одной, то в другой ипостаси, от легкомысленных песен вагантов до мощных романтических баллад и патриотического гимна «День победы». Казалось, что шансы молодого шансонье перед искрящимся талантом Тухманова невелики, но советские обыватели рассудили иначе, и с небольшим отрывом победил Игорь Корнелюк. Это была не укладывающаяся в голове несправедливость, неизбежно наталкивающая на мысль, что для такой убогой публики и петь-то незачем.
Я до сих пор не могу понять, что было не так в этой добропорядочной и довольно качественной советской попсе, почему она сдалась без боя. Признаки упадка стали приходить как-то очень постепенно. Ещё в середине восьмидесятых хиты Валентины Легкоступовой «Ягода-малина» и «На теплоходе музыка играет» цепляли осмысленностью и искренностью. Довольно ровный уровень качества показывали музыканты, начинавшие карьеру в советских ВИА — особенно Александр Буйнов и Алексей Глызин. Первый советский англоязычный боевик Валерия Леонтьева «Black sea and girls», получившийся на удивление безвкусным, казался случайным провалом, но появившиеся вскоре незамысловатые песенки группы «Мираж» звучали уже совсем халтурно. Кто мог знать, что дальше всё будет намного хуже, а хит «Миража» «Музыка нас связала» останется в памяти подростков как гимн освобождения от родительского непонимания?
Как ни странно, убила привычную систему координат модная в то время тема умирания красоты. После появления в «Утренней почте» совершенно несоветской металлической группы «Чёрный кофе» с безобидной рок-балладой «Листья» (или одновременно с ней, сейчас уже трудно вспомнить), тему попытался раскрыть поп-певец Михаил Муромов. Увы, пафос песни «Яблоки на снегу», оставшийся на совести поэта Андрея Дементьева, был настолько неубедительным, что композиция вызвала шквал пародий — однако, что-то вызывающее ощущение недосказанности оставалось. Всё рухнуло буквально за одно утро: в очередном выпуске «Утренней почты» стране показали песню группы «Ласковый май» «Белые розы». Это было разрушительнее атомной бомбы. Песня про выброшенные на улицу цветы сопровождалась недвусмысленной социальной метафорой: молодой певец, наряженный по моде европейских поп-звёзд, провёл почти два года в интернате, будучи по сути сам выброшенным на улицу цветком, и никакие недочёты аранжировки с исполнением не могли быть сильнее этой ошеломляющей правды жизни, в столь нетривиальной форме прорвавшейся на советское телевидение. Это, наверное, и стало приговором советской эстрадной музыке. Нежный мальчик Юра Шатунов бесповоротно захватил пространство и мог делать со слушателями, что хотел. Впрочем, в его арсенале не было ничего, кроме песен о любви, и мгновенно народившиеся клоны молодого певца тут же расхватали его фирменные приёмы. Эфир мгновенно стал переполнен не только «Белыми розами», но и «Жёлтыми тюльпанами», «Розовыми розами» и тому прочей ерундой. Где-то в подсознании, правда, закрадывалась мысль, что питомец детского дома выглядит как-то чересчур гламурно для своей непростой судьбы, но Шатунов вёл себя прилично и выдавал рабоче-крестьянское происхождение лишь немосковским выговором. Гопницкие повадки почти не были заметны в Шатунове даже в 2009 году, когда повзрослевший, но не растерявший формы он решил возобновить карьеру, чтобы на волне интереса к ретро заработать ещё немного.
Дитя оренбургских интернатов не только создал убийственный для советской страны, якобы самой благополучной в мире, образ социальной жертвы, он разбудил сексуальность в новом поколении советских подростков. Вопрос, как это могли разрешить, хотя прежде много лет успешно запрещали, мне кажется, риторическим — с этим просто-напросто вдруг перестали справляться. Страну оккупировали малолетние девочки, чувствующие странные, волнующие ощущения между ног — более желанный приход, чем от алкоголя и наркотиков, но, конечно, не исключающий совмещения всех этих удовольствий. И дело было не в плакатах Шатунова над девичьей постелью, не в приводящем в ужас макияже и кошмарных шмотках — дело в том, что советская власть и вообще мир взрослых стал для этих крошек как-то не важен. Что же касается мальчиков, то в их жизни, проходящей от одной драки на дискотеке до другой драки, поменялось немногое. Ну, может, разве что, увеличилось количество ранних браков по залёту, но смотреть статистику, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, честно говоря, мне лень.
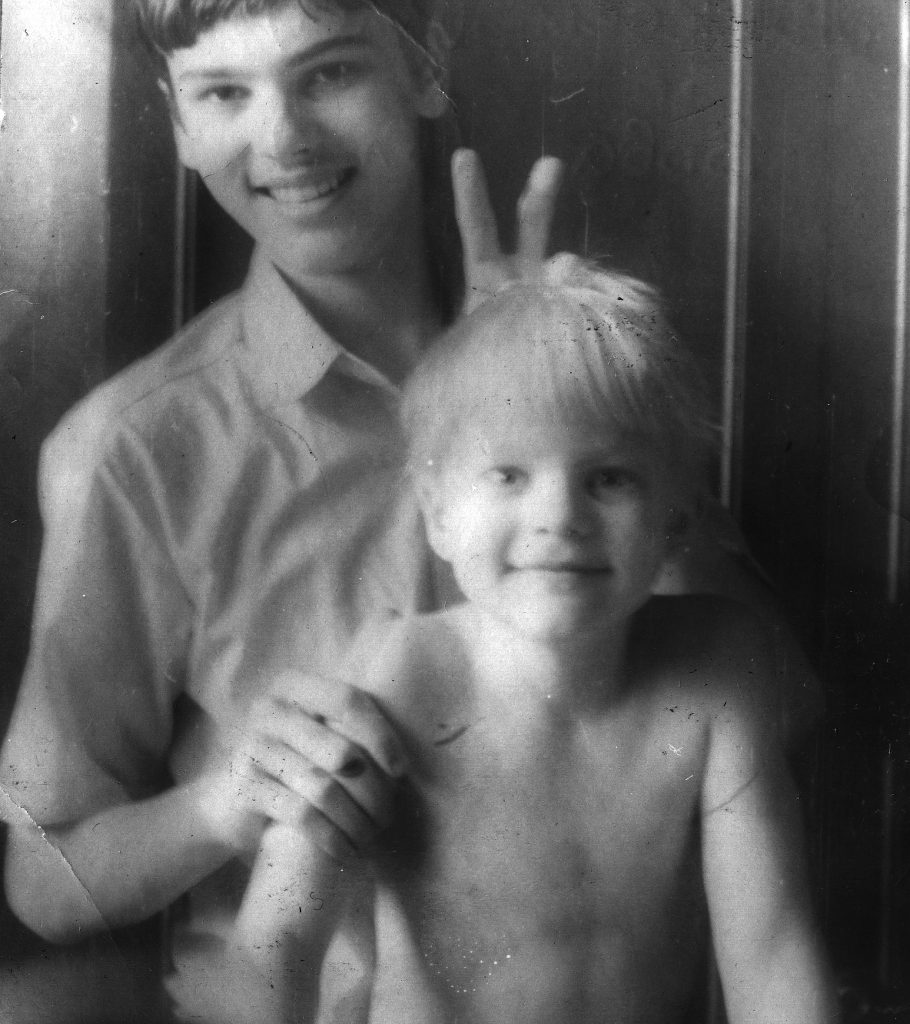

Чувство безопасности
В июне 1986 года у меня родился брат Владимир, и нам как многодетной семье дали две смежные квартиры в новом доме на Ташкентской улице, в Выхино, которые мы сразу же объединили в одну. Если для моих родителей это было определённым жизненным успехом (квартиры — тем более по две сразу — тогда просто так не раздавали), то я, привыкший с детства к доброжелательным людям и лесной тишине, внезапно попал в тяжелейшую, совершенно непереносимую социальную среду. Одновременно с этими перипетиями вышел на финальный этап своего существования и Советский Союз. Впрочем, его жалеть было не за что. Как-то Владимира Абрамовича спросили, ностальгирует ли он по СССР. Помню, дед немного замялся, подбирая корректную формулировку, и наконец выдал: “Я могу ностальгировать по своей молодости, но не по политическому режиму!”.
Экономический кризис стал частью быта ещё во времена, когда мы жили в Вешняках. Я продолжал ходить в «Универсам». Там было много измученных бессмысленным ожиданием людей, но не было никаких продуктов, кроме раздавленных банок с тухлым майонезом. Я помню талоны на сахар и наших соседей, валяющихся в траве у подъезда, которые после введения сухого закона перешли с пива на самогон. В доме появилась «визитная карточка покупателя» с фотографией отца в милицейской форме, которую надо было предъявлять в магазинах, чтобы отличить голодных москвичей от ещё более голодных немосквичей. Другим маркером конца восьмидесятых стала гуманитарная помощь стран Евросоюза, состоящая из еды и ношенной одежды. Помню, каким вкусным казалось сухое молоко, как плакала мама, когда мыши изгрызли и засыпали помётом мешок с макаронами. Но пока мы жили в нашем вешняковском зелёном раю, всё это не казалось чем-то по-настоящему серьёзным. Жертвам землетрясения в Армении, по нашему мнению, было гораздо тяжелее, чем нам, и мы наравне с другими простыми москвичами участвовали в сборе тёплых вещей для пострадавших в Спитаке и Гюмри.
Архитектурный ансамбль Выхино конца восьмидесятых составляли многоэтажки, пустыри, гаражи, два бомбоубежища, стихийные свалки во дворах телефонной станции и НИИ АЭС. Там мы таскали пластиковые трубки, на которые приматывали изолентой резиновые напалечники — получившееся оружие самообороны заряжалось горохом и именовалось «духарь». Характерной приметой времени были цыгане у метро, торгующие чурчхелой и китайскими товарами, среди которых можно было встретить даже дефицитные в то время аудиокассеты. Процветали «напёрсточники» — шулеры, гоняющие поролоновый мячик между тремя стаканами, а потом предлагающие за деньги угадать, в каком из них сейчас находится предмет. Возле станции «Выхино» находился огромный вещевой рынок, на котором выходцы с Кавказа торговали отвратительной одеждой и обувью, но больше ничего не продавалось. Ходить на рынок за одеждой ненавидели в то время, кажется, все мои сверстники. Едва ли не лучше всех об этом спела в 1995 году моя подруга Аннушка Гришина: «Завтра меня поведут в магазин, а я не хочу туда: зачем покупать мне новые туфли, если мне гитара нужна?»
С сумерками юные уроды стекались на танцы к кинотеатру «Волгоград», неоригинально прозванному в их среде «Шанхаем» — выпить водки и набить кому-нибудь морду, чтобы отнять денег и опять выпить водки. Как правило, вечер там заканчивался массовыми драками. Кроме того, возле узкой тропинки с красноречивым названием «Тропа идиотов» (потому что только идиот мог рискнуть срезать по ней дорогу от метро «Выхино» к Рязанскому проспекту), промышляла весёлая банда «тапочников», предлагавшая сносно одетым прохожим под угрозой раскладного ножа-бабочки безвозмездно переобуться во вьетнамские бумажные тапки. Просто, безо всяких причин получить по морде средь бела дня можно было в то время, пожалуй, в любом месте района.
Всю эту атмосферу поддерживало «перестроечное» советское кино — непроходимо депрессивное, эстетически отвратительное и трактующее сексуальную жизнь исключительно как нравственное падение. Что руководило этим потоком грязи, я не знаю — возможно, долго скрывавшие притяжение тел взрослые теперь испытывали чувство вины за свою ложь; любая, самая невинная тайна им казалась пороком просто потому, что её приходилось скрывать. Киноленты вроде «Маленькой Веры», «Интердевочки» или «Ночного гостя» были простой констатацией духовного тупика, но в 1989 или 1990 году я случайно увидел ещё один, абсолютно жуткий фильм — как удалось выяснить четверть века спустя, это была лента В. Прохорова и А. Александрова «Утоли моя печали». Героиня, одинокая девочка-подросток по имени Эля, на протяжении многих лет ходила в гости к соседской бабушке, которая была для неё неким источником духовной силы. Как-то у девочки случился роман с парнем-рокером, которого она тоже привела к бабушке — познакомить. Сцена полового акта мальчика и девочки у мусоропровода с торопливо затушенными об стену сигаретами ничего хорошего не предвещала, и действительно, дальше всё было очень долго и очень плохо. Ближе к концу фильма Эля, так ничего и не нашедшая среди алкоголиков, наркоманов и рокеров, которые хотели от неё только секса, зашла в знакомый дом переночевать. Там её встретил разведённый алкаш-художник (главный герой фильма) и сообщил, что хозяйка уехала, но выгонять на улицу гостью не стал. «Выбирай, либо кровать, либо матрас», — индифферентно сказал он и вышел засадить сто грамм. Вернувшись, мужик раскрыл рот от удивления: раздевшись догола, барышня стояла на коленях лицом к стене и привешивала на стену икону. После этого камера стыдливо ушла в темноту, девушка слабо отбивалась от сексуального насилия, и никакой духовности в ней уже не было. Когда в кульминации фильма бывшая жена художника пришла в квартиру и напала на оставшуюся с художником Элю, девушку было очень жалко. Заканчивался фильм зрелищем алкаша, танцующего на столе во дворе. После этого плёнка обрывалась, что лишь добавляло фильму безысходности. Выйдя из кинозала вместе с редкими перепуганными зрителями, я ещё не знал, что началась эпоха девяностых, и теперь этот ужас придётся терпеть ещё очень долго…
Новосёлам — таким как я — надо было подчиниться или сдохнуть, другой альтернативы у нас не было. Попав в школьный класс, где были уголовные порядки со всеми прелестями «авторитетов», я был вынужден уйти в изоляцию. Весь день проходил в провокациях, драках, проходивших то в школьных коридорах, то в гаражах, то в строительных котлованах. Доверие и доброжелательность были худшими тактическими ошибками, но хуже всего было то, что по окончанию третьего класса меня угораздило впервые влюбиться. Что делать с этим бедствием, я не знал. Если бы у меня был хоть какой-то шанс на взаимность, несчастную девочку, наверное, уничтожили бы вместе со мной. Этой влюблённостью я молчаливо мучился долгих три года…
Мне и сейчас иногда кажется, что родители напрасно забрали меня из моей первой школы, где я чувствовал себя на своём месте. Но, с другой стороны, когда я попадал в экстремальные ситуации, мне на выручку не раз приходили быстрая реакция и хитрость: выхинская кулачная дипломатия натренировала уклоняться от боя с численным преимуществом противника и резко нападать в тот момент, когда жертва этого не ожидает. Я признаю своё несовершенство, постоянные драки пошатнули мою веру в добро. Я научился бросаться на амбразуру за свои идеалы, не считаясь с последствиями. Кто знает, могло ли всё сложиться так, если бы я остался жить в Вешняках и ходил бы в спокойную школу на необременительные уроки.
Новая жизнь была настолько несовместима с моей натурой, что с первых дней жизни на Выхино я стал страдать хронической депрессией, которая проявлялась в том, что мысли-страхи, будучи сами по себе объективно неразрешимыми, превращались в навязчивый кошмар, от которого было невозможно укрыться — даже заснуть не удавалось. Но днём, в школе было ещё хуже, и только дома, закрывшись в комнате, я какое-то время испытывал чувство безопасности. Кроме игрушек и книг моё одиночество время от времени разделял лишь одноклассник и единственный друг, Лёня Ваккер, оказавшийся в такой же сложной ситуации, как я — в силу природной доброты и еврейской национальности. Мы были оба не от мира сего, но каждый по-своему. Я пытался учиться фотографировать, играл в целые страны и государства, оттачивая знания в области политики и экономики, а также организаторские способности. Лёня был, несмотря на еврейскую кровь, пламенным русским патриотом и фанатом Отечественной войны 1812 года. Его мать была внучкой поэта Александра Полонского, и моего друга тянуло к искусству.
Большую часть своих школьных лет я был уверен, что мне известен какой-то особый секрет справедливой жизни, который мог бы исправить невыносимость бытия — например, однажды я разработал символику тайной школьной террористической организации, которая должна была избавить мир от гопников и наиболее одиозных учителей — но, наверное, мне просто не повезло с эпохой. Ни сестра, ни брат, ни ребята, у которых спустя годы я преподавал историю в той же самой школе, не сталкивались и близко с той агрессией и ненавистью, которую видел я. По-настоящему меня понимал только дед, помнивший военную и послевоенную школу.
Целыми днями мы с Лёней пропадали в гостях друг у друга, стараясь преодолеть расстояние от подъезда до подъезда без приключений. Спасение мы видели в том, чтобы как можно скорее перейти в другую школу и, таким образом, поменять социальное окружение на любое иное, но родители были равнодушны к нашим мольбам. Это продолжалось до тех пор, пока однажды в середине октября 1989 года я не ударил одного из гопников слишком сильно. Приложившись головой к крыльцу нашего муниципалитета, в котором мы с Лёней пытались скрыться от драки, он получил сотрясение мозга. Я знал, что на следующий день меня уничтожат и, проплакав в подушку до утра, заявил, что больше не пойду в школу. Только тогда мои родители подали документы в 825 школу в Кузьминках. Чуть раньше Лёня ушёл в 39 школу, где работала его мать. Что же касается парня, которого я ударил, то через несколько лет он лишился уха, которое ему срезало какой-то случайной железкой во время падения с лестницы в подъезде. Пожалуй, я покривлю душой, если скажу, что не порадовался этому событию и не пожелал того же другим своим одноклассникам, но, чёрт побери, я не испытываю никакого сожаления по этому поводу.
Период полураспада
Надежды на перемены к лучшему оправдались не в той степени, в которой я хотел. В другой школе моя жизнь, осталась тошнотворной, хоть и менее агрессивной. Место драк заняло настороженное отчуждение, что было лучшим из зол: я мог поменять окружение, но нельзя было поменять эпоху. Попытки физической расправы в формате «один на всех и все на одного» догоняли меня бумерангом ещё несколько лет, но никому ни тогда, ни раньше, ни позже, не удавалось сломать меня морально — испытывая боль, я не отказывался от своих убеждений. И среди уродов находились те, кто уважал меня за это. Впрочем, их уважать было не за что…
Школа № 825, директором которой был мой дед, не была обычной. Смысл её воспитательной системы заключался в том, чтобы учителя проявляли уважение к детям, относились к ним, как к равным. За двенадцать лет директорства Владимира Абрамовича школе удалось уйти на некоторое расстояние от советской модели, но большинство педагогов мыслили по-старому. Для того, чтобы добиться доверия детей, им надо было стать частью их компании, но в то время это было немыслимо с обеих сторон — не считая нескольких харизматичных молодых учителей, которых любили и которым доверяли. Другим светлым исключением был кабинет химии, где по переменам ребята вместе с учительницей на учебных спиртовках заваривали чай. С этим классом (они были на год старше меня) я общался ближе, чем с остальными.
Было невозможно представить, чтобы у кого-то из нас вдруг возникла возможность реализовать себя в школе. Правда, моё увлечение поэзией не вызывало особого противодействия: иногда на уроках я графоманил по заданию учителей, не испытывая ни удовольствия, ни отвращения. Сопротивляясь советскому формализму, школа предлагала ученикам собственные обычаи и традиции. Многие с удовольствием их принимали, но лично я не был в состоянии понять, чем Городницкий, Митяев и Визбор лучше Пахмутовой, а коммунарские сборы лучше пионерского отряда. Когда я начал слушать «Битлз», мне окончательно стало ясно: школа так увлечена своим локальным социумом, что просто не верит в возможность существования каких-либо ещё субкультур. К тому же, все эти прекраснодушные бардовские объятия вокруг гитары по переменам существовали в одном мире, а отношения между людьми — в другом. Да, школа была буквально переполнена добрым, разумным и вечным. Дети ходили в походы, на экскурсии, участвовали в коллективных творческих делах, вместе пели песни. Но пока это совмещалось с куревом в туалете, кромешным матом, драками и убогой школьной программой, я не верил в искренность добра. Что делать, школа была обязана обучать всех детей районе, не только коммунаров.
Почему-то я часто вспоминаю два эпизода из тогдашней школьной жизни, оба связанные с самыми ненавидимыми уроками — физкультурой и трудом. Я не любил волейбол, не особо понимал баскетбол, зато обожал футбол, но играть в него нам разрешали редко. Впрочем, однажды класс разделили на две команды и сказали, что «будем играть по правилам». Из-за плохой игровой техники обычно я занимал позицию центрального защитника и действовал по принципу «не можешь обыграть, вали», но тут выдвинулся в линию полузащиты и, поймав на отскоке мяч, не побоялся ударить по воротам и попал, к своему удивлению, в девятку. Радость моя была неописуемой, но недолгой: через пять минут меня стали откровенно ломать. Не выдержав, я рубанул кому-то по ногам, получил красную карточку и был изгнан с поля. После этого в защиту меня больше не ставили, только в ворота. Впрочем, вскоре зрение у меня упало окончательно, я перестал видеть мяч и, как следствие, играть в футбол.
На уроке труда в начале восьмого класса нам дали задание, рассчитанное на полгода: из куска арматуры с помощью напильника выпилить нечто напоминающее долото, закалить в печке, опустить в ведро с водой и испытать счастье. Ну а что происходит с напильником при соприкосновении с арматурой, как вы думаете? Разумеется, он довольно быстро приходит в негодность. И вот представьте себе двадцать восьмиклассников, двадцать начисто стёртых напильников и абсолютно бессмысленная трудоёмкая работа, которая, по идее, должна была воспитать в нас любовь к труду. Несмотря на то, что в классе стояли старые, но вполне годные для работы токарные станки, это измывательство длилось каждый день по сорок пять минут. Правда, учитель, отдам ему должное, проявлял к нам сострадание. Вручив напильники, он выходил из класса, и тогда мы могли какое-то время свободно ходить по помещению, трепаться и даже слушать музыку: Лёня Рабинович приносил старенький советский магнитофон и ставил «Сектор Газа». Однообразные движения тупого напильника при более испорченном воображении, чем у меня, явно ассоциировались бы с сексом, и вообще, возможно, это сочетание можно было бы назвать забавным — но только не тогда и не мне. Слушая всю эту подростковую порнографию, я умирал от отвращения к окружающему миру. Мне казалось, что нет ни малейших шансов на то, чтобы что-то вокруг изменилось к лучшему.
Августовский путч, наверное, действительно, был поворотным пунктом в общей бессмысленности, когда начало меняться хоть что-то. В отличие от событий октября 1993 года, о которых речь позже, он остался в моей памяти всего лишь как интересная телепрограмма — правда, мы с Лёней на всякий случай попрятали по дальним углам квартир свои рифмованные агитки. Но на школьной жизни эти события, выпавшие на летние каникулы, почти не отразились. Лично мне намного лучше запомнилось, как в нашей школе прекратила существование пионерская организация.
Всё началось с моего одноклассника Вити Раскина, который весной 1991 года во всеуслышание объявил, что по причине эстонской национальности и прилагающихся к ней антисоветских убеждений он единолично выходит из пионерской организации, после чего демонстративно перестал носить галстук. В школе начался переполох. Против Вити (и так, кстати, приходившего на занятия в школьной форме какого-то нестандартного покроя) начались нешуточные репрессии — видимо, от страха, что кто-нибудь донесёт на школу, и тогда накажут всех — детей, учителей, администрацию. Ребята, в основном, поддерживали Витю. Некоторые из солидарности пообещали не носить пионерский галстук, и я тоже собирался последовать их примеру. Явно назревал стихийный бунт, мечта каждого тогдашнего школьника — по типу того, который был описан Львом Кассилем в «Кондуите и Швамбрании» — но учителям всё-таки удалось всех запугать, и оставшиеся несколько дней до конца учебного года мы провели духовно сломанными. Зато первого сентября, после путча, мы пришли в школу все как один без пионерских галстуков, и никто уже не мог высказать никому никаких претензий — пионерской организации не существовало. Впрочем, Витя Раскин этого уже не мог видеть: летом он уехал с родителями в Эстонию, и больше мы его не видели.
Летом 1992 года мы с сестрой решили развить эту тему. В то время отец стал обладателем старенькой дачи в посёлке Агашкино. Разумеется, в отличие от других детей, у меня и мысли не было с кем-нибудь там познакомиться и пообщаться. Вместо этого, чтобы бороться со скукой, мы стали писать рассказы-пародии о школе. Особенно удачным оказался образ фанатичной пионервожатой Нади Костоломовой: к примеру, в одном из рассказов вся школа под её руководством хоронила случайно разбившийся бюст Ленина. Отрицательных героев мы списывали, в основном, с реальных прототипов, доводя их индивидуальные особенности до абсурда — благо, ярких персонажей хватало в любой школе.
Впрочем, у нас были и хорошие учителя — более того, их было большинство. Думаю, если бы не учительница литературы Людмила Романовна Готлиб, я бы не смог по-настоящему анализировать поэзию. Учительница истории Маргарита Сергеевна Шашурина считала меня ребёнком-индиго и позволяла мне заниматься на её уроках всем, чем угодно. Хорошее взаимопонимание у меня было с учительницей английского языка Валентиной Петровной Пророк, благодаря которой я немного приблизился к пониманию британской культуры.
В начале девяностых наша воспитательная система внезапно поменялась до неузнаваемости. Школа была преобразована в педагогическую гимназию, а один день в неделю теперь был посвящён каким-то необычным и поначалу казавшимся несерьёзными предметам — эстетике, этике, психологии, истории религии и культуры, тренингам личностного роста. Правда, это не отменило Городницкого с Митяевым, но теперь у нас появилось кое-какое разнообразие. По итогам года мы выбирали любой из этих предметов и писали по нему курсовую работу. После окончания школы ученики могли сдать вступительные экзамены в МПГУ (Московский педагогический государственный университет) непосредственно вместе с выпускными экзаменами. Кажется, наш класс был вторым, который занимался по этой программе. Многие из нас с трудом верили, что девятый и десятый классы учатся с нами в одной и той же школе.
Окончательная линия водораздела для меня прошла в 1993 году, когда учитель истории культуры Андрей Александрович Муравцов, любивший покурить на школьном крыльце, дал послушать старшеклассникам кассету с альбомом группы «Ministry» «Psalm 69». Вскоре, правда, его уволили (и, вроде бы, даже не за это), но для меня школа навсегда перестала быть такой, какой была. Дело было, конечно, не в Муравцове — просто изменилось время, и уже скоро в школу пришло много молодых учителей, большинство которых сами были выпускниками 825 школы. Один из новоприбывших, Дмитрий Васильевич Григорьев, спустя пятнадцать лет сменил моего деда на посту директора школы…
Впрочем, в 1991-1992 годах мало что указывало на такой поворот событий. Заканчивая восьмой класс, я продолжал чувствовать себя самым несчастным и ненужным человеком на планете, время казалось бессмысленно бесконечным, и я уже был готов принять свой тюремный срок полностью, до самого окончания школы, но тут всё переменилось.