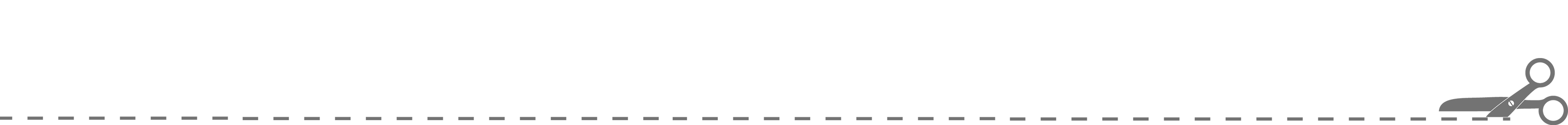739 Views
* * *
Жить бы нам в дальней дали от доморощенной дряни
где-нибудь, радость, радость моя, в Тоскане.
Так залюбоваться тобой посреди разговора,
что не увидеть великолепия ни площади их, ни собора.
Он учил тому, что мы есть: любви, – но Его поминают
не одними молитвами, но и тем, что опять распинают.
Нам родиться бы при герцоге Пьетро в Уфицци,
но жизнь началась при убийце и кончится при убийце.
Псалом
Сердце, сердце левое моё, Господи, – право! –
потому разрывает грудь.
Дай прозренье мне, чтоб воссияла слава,
слава Твоя, Господи, или вовсе меня забудь.
Видишь зависть мою к этим куцым
умом безумцам –
к ним, не знающим, что не изъеден
лепрой и не в рванье убийца
(пусть издохнет в гниении каждая в нём крупица!)
и что смерть истребляет того, кто беден
и беззащитен? Раз мне выпало сбыться,
сделай так, чтоб я стал неведен.
Каракурты се́ти ткут, началась пути́на –
на людей, не рыб,
началась охота. Разгрязло небо, оно трясина.
В луже моря, среди осклизлых глыб,
вижу тушу,
чьи глаза от жира выкатились наружу.
Для того ли я сердце своё очищал вседенно
и всенощно и руки
омывал в невинности, чтоб себя на съеденье
людоедам отдать, давя́щимся жратвой от скуки,
живодёрам? Конец ли света
Ты задумал? Ты видел это?
Из Готфрида Бенна
Пока палач бесчинствует, поплачем
и поскорбим,
мы страусы, мы головы попрячем
не вострубим.
Смотри, смотри, как совестливо дышит,
когда на бис,
кисть обмакнув, свои полотна пишет
полотнопис,
как исподволь (зато душе раздолье!)
творит добро
тот, кто веками вечное в подполье
точил перо.
Будь классиком! Они не умирают –
один из них
писал, что времена не выбирают,
живи в любых…
Шалишь! Мы выбирали это время,
мы тут как тут,
мы племя страха, страусово племя,
мы страшный суд
над собственною жизнью в скобках.
Давай, давай,
бесчинствуй, мразь, и струсивших уёбков
поубивай.
у окна
я пью с тобой, нелюдь.
душа не болит.
тем более, наледь
глаза стекленит.
ты помнишь, намедни
здесь был человек?
он знал, что целебней,
и к слову прибег.
но прежде он выбил
окно – за окном
(ты выпил? я выпил),
объятый огнём,
кричал ещё кто-то.
(по новой? налей)
той ночью охота
велась на людей.
«есть матери, дети, –
сказал человек, –
есть горе на свете.
отныне навек
будь там, где унижен,
замучен, распят
живущий и выжжен
взращённый им сад».
что ж, будем. я выпью
за это с тобой,
мы скованы цепью,
подлец, ледяной.
страна
1.
копнёшь – и расшевелится,
расшебуршится прах,
как шушвальная швейница
в лохматых лоскутах,
проклянчится, проклюнется
да и пойдёт в разлёт:
то в небеса расплюнется,
то землю облюёт,
то в смра́женье прокра́дется
на людные стези,
чтоб вширь и вшмяк разгадиться
и расцвести в грязи.
2.
свирепе́й
в зле и сраме
и вскорми упырей
гнилью в мусорной яме,
без затей
с потрохами
пожирая людей
и рыгая стихами,
всё яре́й
рви когтями,
начиная с червей,
чтоб закончить крестями.
исход
поезд паровозных искр.
кончено. без пересадок.
позднее спасенье. прииск.
дня остаток
выпит. ночь. «гори, гори…»
их романс мне тошнотворен.
лагерные фонари.
свет проезжий, будь зашторен.
мы одни с тобою. пуст
поезд. если что и вспыхнет,
то в уме: горящий куст.
да не стихнет!
куст горящий, полыхай.
не было и нет нам дома.
ицхак, янкель, мордехай,
мендель, шломо.
ночь. романс «умру ли я…»
с пьяною слезой с платформы
донесётся. жизнь моя,
их пайки, участки, нормы
нам не в пору. здесь он, дом.
никуда мы не прибудем.
мы одни с тобой вдвоём.
мы пребудем.
adieu
ты ослеп? тогда надень очки –
во дворе играют в ножички.
отходные – с круга не сойти! –
трупами завалены пути.
на носу, мой мальчик, заруби:
быть ( to be) и значит not to be.
жить неотвратимо – значит жить
кратко, лишнего не говорить.
вышел, завязал на шее шарф
(если вышел в Англии, то scarf),
очи поднял – бойня на дворе,
и повесился на фонаре.
спать, уснуть, как рыба без воды,
где ни света нет, ни темноты.
те, кто спят по-мёртвому, честны.
только немощные видят сны.
что ж, adieu, а сам повремени
и меня в молитвах помяни.
шесть шагов
им имя – нет пути назад –
интеллигетто –
и если это не закат,
то что же это? –
песками – на самумный суд
идут верблюды
и сонной совести несут
впотьмах сосуды –
пустыней, где таких, как мы,
не счесть, мы дети
песочниц, потому нас тьмы,
мы вхожи в эти
пески, где мне никто не друг –
(всё только мнилось!) –
где та, единственная, вдруг
переменилась –
плевать на всех, но ты, поэм
моих отрада,
(прости за пафос) – ты зачем?
в чём виновата? –
погонщик-время гонит скот,
чтоб сжить со света,
и если это не исход,
то что же это?
египетское
вода, льющаяся из крана
да обратится в кровь.
да постигнет чумной ров
ублюдка-тирана.
хаза да провоняет, дабы
в шконке его, в жратве
и у братвы в ботве
жили черви и жабы.
да зловонят в гнезде отбросы,
да облепят его мурло
до того, как пожрёт жерло
времени, кровососы.
да обрушится на сусеки
и его терема
смертоносная тьма,
непроглядная тьма навеки.
да сойдут ангелы смерти
на детей его
и возьмут всех до одного
на горящие жерди.
p. s.
всё любящее отстоять…
но если жизнь срезается под корень,
я выбираю смерть, и значит, «быть»
равно «не быть». я ставлю точку, мать.
се человек? но путь земной позорен
того, кто хочет звук и цвет убить.
где первое лицо – подлец,
в империи, где мерзкие спектакли –
отрада публике (она спилась),
я третьим стал (of course!) лицом, отец.
я – он. и мы с тобой – они, не так ли?
лексема «дальше – тишина» сбылась.
ни прегрешений, ни утех.
здесь, в этом поле, снег не обеляет,
ночь не чернит, и некого любить.
здесь, в этом поле, бродят души тех,
кто на снегу следов не оставляет.
и нет вопроса «быть или не быть».
беспамятство здесь властелин.
и лишь строка моя неисцелима,
как если б снилось белой белизне,
как если б снилось слепоте долин
Офелии оливковое имя,
столь серебрящееся в смертном сне.
* * *
как бы зиждиться забвеньями?
вот ведь, что ни взмах ресницы,
мерзкими поползновеньями
воздух, брезгуя, грязнится.
как бельё пронумерованный,
ты постиран и приглажен,
кровопивец гримированный,
унавожен и уважен.
не хочу звериный дар нести —
что пошлее и постылее?
я не страсть, но немощь старости
славлю и покой бессилия.
не того, когда не ранится
тихая душа усердная,
ибо и тебя, избранница,
славлю, всякий миг бессмертная.
художник
он творит полотно,
бледный как полотно,
потому что война.
его участь двойна
и странна.
он с одной стороны
сын роскошной весны,
а с другой стороны –
сатаны.
пот кровавый кровит,
всё залить норовит.
он с одной стороны
сыт и пьян, пьян и сыт,
а с другой стороны
он убит.
он войне отомстит.
он урон возместит.
райский сад на холсте
бог простит на кресте,
бог простит.